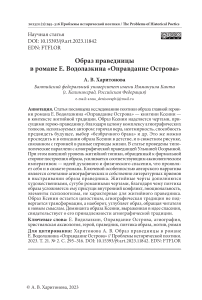Образ праведницы в романе Е. Водолазкина "Оправдание острова"
Автор: Харитонова А.В.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию поэтики образа главной героини романа Е. Водолазкина «Оправдание Острова» - княгини Ксении - в контексте житийной традиции. Образ Ксении наделяется чертами, присущими герою-праведнику, благодаря целому комплексу агиографических топосов, используемых автором: горячая вера, неотмирность, способность предвидеть будущее, выбор «безбрачного брака» и др. Это же можно проследить и в описании образа Ксении в детстве, и в сюжетном рисунке, связанном с героиней в разные периоды жизни. В статье проведены типологические параллели с агиографической праведницей Ульянией Осорьиной. При этом внешний уровень житийной топики, обращенный к формальной стороне построения образа, усиливается соответствующим аксиологическим императивом - идеей духовного и физического спасения, что проявляет себя и в сюжете романа. Ключевой особенностью авторского нарратива является сочетание агиографических и собственно литературных приемов в выстраивании образа праведника. Житийные черты дополняются художественными, сугубо романными чертами, благодаря чему поэтика образа усложняется: ему присущи внутренний конфликт, эмоциональность, элементы психологизма, не характерные для житийного праведника. Образ Ксении остается целостным, агиографическая традиция не подвергается трансформации, а наоборот, углубляет образ, обращая читателя к новым смыслам. Доминанта образа Ксении, выраженная в идее спасения, свидетельствует о его принадлежности агиографической традиции.
Е.водолазкин, оправдание острова, агиография, христианская аксиология, герой, праведник, поэтика образа, мотив, роман
Короткий адрес: https://sciup.org/147241432
IDR: 147241432 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.11842
Текст научной статьи Образ праведницы в романе Е. Водолазкина "Оправдание острова"
О бращение современных отечественных писателей к традициям древнерусской словесности является сигналом того, что русская литература XXI в. нуждается в новом герое, который, с одной стороны, близок читателю, с другой — является примером в деле нравственного и духовного движения к совершенству. М. А. Черняк охарактеризовала современного героя как «инфантильного» и «слабого», расположив «безверие» [Черняк: 68] (здесь и далее полужирный курсив в цитатах наш. — А. Х. ) первым среди черт, присущей ему. Поэтому, по мнению Я. В. Солдаткиной, очевидной стала потребность в литературном обращении к «альтернативным типажам», «в возрождении типа "праведника"», способного «в новой исторической реальности художественно воплотить идеи сострадания и жертвенности, нестяжательства и служения ближнему» [Солдаткина, 2015: 60, 66].
Ярким примером такого обращения служит творчество Е. Водолазкина, в романах которого центральное место занимает герой-праведник («Лавр» и «Оправдание Острова»)1. Я. В. Солдаткина так определяет специфику произведений писателя: «…творчество Водолазкина может быть сочтено своего рода медиатором между современными литературными тенденциями создания текста, с одной стороны, и средневековыми приемами — с другой» [Солдаткина, 2019: 309]. Анализируя особенности обращения писателя к предшествующим литературным эпохам2, исследователь утверждает, что Е. Водолазкин следует путем Булгакова, Платонова и Пастернака в поисках «нового художественного языка при одновременном сложном взаимодействии с духовно-религиозной традицией» [Солдаткина, 2019: 318]. Таким образом, аксиологическая ориентированность автора на традицию, по мнению исследователей, ставит его произведения в один ряд с классическим русским романом и «едва ли бессознательно, но именно вполне осознанно» возвращает их «к тому стержню — к идее "восстановления"/ "пробуждения"/"спасения", — на котором держался русский классический роман» [Беляева, Тышковска-Каспшак: 93].
Для воплощения этой непростой задачи в «Лавре» Водолазкин «обратился к древней форме — к житию, предназначенному для такого рода повествования, только писал это житие современными литературными средствами»3. «Оправдание Острова» автор определяет как « роман о праведниках (а еще о возвышенной супружеской любви…)»4. Если в «Лавре» Во-долазкин обращается к житиям прямо и косвенно и «практически дословно воспроизводит текст» [Трофимова: 12–13], принадлежащий Житию конкретного святого5, то главные герои «Оправдания Острова» «не повторяют судьбу ни одной из правящих пар…», а в романе «доминируют хронографические, а не агиографические образцы» [Архангельская, 2022: 88–89]. Отсюда, на наш взгляд, и произрастает то особенное обращение к традиции6 и образу праведника7, которое заметно прослеживается в «Оправдании Острова» и о котором будет сказано далее.
Отметим, что в широком смысле к традиции в художественном произведении можно отнести «наличие видимых форм Священного Предания и Писания: текстов8, цитат, реминисценций, христианских сюжетов и т. д.» [Дорофеева, 2019: 20]. Однако присутствие только эксплицитных форм может свидетельствовать об «использовании» житийных элементов в качестве кон структа при создании художественного текста, но не обязательно о нахождении его внутри традиции. Важнейшим принципом, определяющим принадлежность к традиции, является обязательное «наличие христианской аксиологии , прежде всего в позиции автора и в художественном пространстве текста» [Дорофеева, 2019: 20]. Агиография, ставшая одним из основных источников русской литературной традиции, ценностно ориентированной на Евангельский текст, главной имеет внелитератур-ную цель — спасение души, и одновременно условно «литературную» — изображение словом образа святого. По словам А. Н. Ужанкова, спасение души и есть «основная тема всей древнерусской словесности. Каждое житие святого дает конкретный пример такого спасения» [Ужанков, 2022: 82]. И эти примеры оказываются привлекательными для современных писателей, ищущих способы изобразить святость в художественном образе, при этом ориентируясь на житийный канон. Данную тенденцию уже отмечали исследователи, определяя подобный тип авторской рецепции как «воссоздающий» традицию [Бычков: 120]9.
Е. Водолазкин в своем новом романе «Оправдание Острова» стремится к этому «воссозданию» житийной традиции, решая сложную задачу изображения святости художественными средствами. В рамках статьи мы ограничимся более подробным рассмотрением одного женского образа — Ксении, оставляя в стороне тему супружеских отношений, важную для понимания авторского замысла в целом. Сосредоточимся на выявлении типологических черт, сближающих эту героиню с образами праведниц10 и свидетельствующих о ее причастности к агиографической традиции, для чего обратимся к анализу образа на уровне агиографической топики.
Для поиска типологических параллелей рассмотрим Житие Ульянии Осорьиной, являющееся, по-видимому, «единственным житием, прославляющим святую праведницу» [Руди, 2005: 96], которое «может соответствовать идеальному представлению о жизни святого, укладываясь в схему похвального жития со всеми необходимыми ее топосами» [Руди, 2001: 88].
В центре романа «Оправдание Острова» — судьба княжеской четы, Парфения и Ксении, которым Бог послал невиданное долголетие — 347 лет. Рождение их было предсказано за семь лет пророком Агафоном Впередсмотрящим:
«У тебя, князь, будет сын именем Парфений, что значит девственник . У князя же Андроника родится дочь Ксения, то есть чужая , что можно понимать как чужая миру »11.
Уже в этом сюжетном элементе обнаруживается аллюзия к топосу о чудесном появлении праведника, что подтверждается также рождением князей во время свирепого мора, унесшего жизни тысяч островитян. К следованию традиции относится и принадлежность главной героини княжескому роду. Так, говоря о причисленных к лику святых до XX столетия «честных женах», Т. Р. Руди отмечает, «что подавляющее большинство из них либо относятся к княжескому роду и чтятся соответственно как благоверные княгини, либо являются монахинями, т. е. чтятся как преподобные, а зачастую соединяют в себе два этих чина святости» [Руди, 2001: 85].
Заметим также, что через мотив чудесного рождения автор сразу причисляет образы княжеской четы к области сакрального, при этом героиню изначально наделяет чертами, присущими описанию святого. Ксения « детских игр не любила и их сторонилась , отчего несведущим и не обладающим тонкостью чувств могла показаться нелюдимой и даже диковатой . На деле же кажущаяся нелюдимость отражала ее внимание не к земному, но к горнему» (72). Устами хрониста подчеркивается «истинность» слов о святости Ксении в глазах окружающих:
«Дети не могут не вызывать любви, особенно Ксения, чадо необычное и странное , которому ведомо неведомое и видимо невидимое. Она всегда сторонится детских забав, как сторонятся их в детстве только святые » (84).
Сравним описание Ксении с образом праведницы в житии Ульянии Осорьиной (Лазаревской):
«Бе бо измлада кротка и молчалива, небуява, невеличава и от смеха и всякия игры отгребашеся. Аще и многажды на игры и на песни пустошные от сверьстниц нудима бе, она же не приставаше к совету их, недоумение на ся возлагаше, и тем потаити хотя своя добродетели» (цит. по: [Руди, 2001: 88])12.
Очевидны не просто типологические параллели в описаниях детских образов Ульянии и Ксении. Фактически обнаруживается либо непрямое цитирование, либо, что будет точнее, агиографический топос, сопровождающий жития преподобных и праведных. Отметим, что для житий преподобных, монашествующих, характерен топос о стремлении святого к богоугодной жизни с детских лет. Однако для жития праведницы, спасавшейся в миру, использование этого топоса уникально. Исследователями отмечено, что «подвиг спасения, воплощенный в ее жизнеописании, не знает прямых аналогов и образцов в предшествующей оригинальной житийной литературе» [Васильев: 183]. Топос отречения от мирского в детские годы объясняется стремлением Ульянии к монашеской жизни с юных лет и служением «в миру так, как она служила бы Христу в монастыре » [Васильев: 183]. Такое стремление, сопровождающееся этим же топосом, встречается и в современном тексте вобразе княгини Ксении.
Весьма значительная роль в романе Водолазкина отводится мотиву чуда, который носит агиографический характер13. Герои совершают чудеса, подобно житийным святым. Такова история о нашествии на Остров саранчи, остановленной силой молитвы героев:
«…Парфений и Ксения взошли с епископом Феопемптом на колокольню Преображенского собора и молились Господу и Пречистой Его Матери об избавлении от сея напасти» (122–123).
Саранча, перелетев Остров, приземлилась в море, где утонула, и «все понима ли, что это было чудо» (123).
Следуя традиции, автор наделяет героиню даром предчув-ствования, благодаря которому в детские годы Ксения спасает Парфения от смерти во время игры в ножички. Не находясь с ним рядом, но предчувствуя опасность, она выкрикивает слово «нож», что спасает Парфения, «странным образом» услышавшего этот возглас и повернувшегося в ее сторону, тем самым отвернувшись от летевшего в него ножа, попавшего «не в сердце, а в плечо» (76)14. Этот эпизод представляет особый интерес, так как является иллюстрацией авторского метода, который исследователи характеризуют как соединяющий «в себе противоречивые элементы» [Трофимова: 7]. Кроме того, чудо происходит в момент прогулки Ксении-ребенка по берегу моря и наблюдения ею за кривыми ногами своей тети. Это яркий пример взаимной интеграции каноничного чудесного, принадлежащего сакральному духовному миру, и авторского, казалось бы, намеренно сниженного, едва ли не профанного, пространств. Духовный мир, словно нивелированный описанием физиологической детали, сталкивается с миром телесным. Однако подобное художественное решение приобретает здесь неожиданное звучание. Во-первых, через детали и вставные конструкции вводится столь любимая Водолазкиным тема описания жизни «в моменте», подробно раскрытая автором в романе «Авиатор»15. Подобный прием позволяет читателю увидеть произошедшее через призму мировосприятия Ксении. Во-вторых, с точки зрения Ксении-ребенка, не ситуация чуда «снижается», помещаясь в бытовой контекст, но, наоборот, вещный мир, профанная действительность сакрализуется. Обратим внимание, что Ксения, по ее словам, закричала, «не понимая», что делает, «вырвалось просто», она «находилась, вообще говоря, не здесь» (76). Божественный промысел выступает для героини на первое место, «странным образом» меняя ход естественных событий (героиня оказывается вне пространства и времени), помогая Парфению избежать смерти. Вставная конструкция «мои слова суженый слышал с любого расстояния» (76) определяет суть понимаемого Ксенией чуда уже во взрослом возрасте: Парфений предназначен Ксении свыше, а значит, спасен по Божией воле сейчас для совместного спасения в будущем.
По схожему принципу авторское начало проявляется и в других структурных элементах романа, отсылающих к агиографии, что с особенной силой выражено в центральном мотиве, сопровождающем образы княжеской четы, — мотиве «безбрачного брака». Воздержание супругов «по взаимному согласию является одной из традиционных моделей реализации в житиях топоса об отношении святого к браку. Известно, что многие святые жены хранили девство в браке, подражая «"безбрачному браку" Марии и Иосифа» [Руди, 2001: 90]. Также отречение от телесного является «активно разрабатываемым мотивом уподобления монашеской жизни жизни ангелов — imitation angeli» [Руди, 2005: 79]. «Сподобиться ангельского образа» значит «отвергнуть жизнь плотскую и сосредоточиться на жизни духа» [Руди, 2005: 79]. Таким образом, в романе соединяются два топоса, когда праведница почитается и как благоверная княгиня, и как монахиня. В рассматриваемом произведении этот житийный топос получает развитие и авторскую интерпретацию. Ксения хочет уйти в монастырь после свадьбы, не спрашивая согласия муж а, а поставив его перед фактом:
«— Как ты меня покинешь, — спросил я, — ведь ты жена моя? Она впервые посмотрела мне в глаза:
— Я невеста Христова, и Он ждет меня в монастыре. Ты же меня прости. <…>
Когда Ксения подошла к двери, я напомнил ей о предсказании Агафона. Я уже не надеялся ее удержать, просто спросил, как мне быть.
Заметив в ее глазах сомнение, встал перед ней на колени. Сказал, что никогда не прикоснусь к ней, пусть только она останется. Обещал, что будем жить с ней по любви совершенной: останемся братом и сестрой, как до нашего венчания» (119).
Вновь очевидно сходство с Житием Ульянии Осорьиной, которая, уже родив детей, просила мужа отпустить ее в монастырь, скорбя «о томъ, что лучшей мѣры дѣвственнаго житiя не постигла» [Буслаев: 254]16. Настроенная решительно, Ульяния ставит ультиматум супругу: «…если не отпустишь, то бѣгом изъ дому своего утаюсь» [Буслаев: 258] (то есть уйду без твоего на то согласия). Муж же в ответ просил ее остаться и читал ей святых отцов:
«Кто <…> отходитъ въ монастырь, не думая пещись о дѣтяхъ , тотъ не труда ищетъ, и не любви Божiей, но хочетъ только отдыхать. А дѣти осиротѣвши плачутся и клянутъ , говоря: зачѣм же родители наши, родивъ17 насъ, оставили въ такой бѣдности и нуждѣ?» [Б услаев: 258].
Наблюдается очевидная параллель: как супруг умоляет Ульянию не покидать детей, так и Парфений просит Ксению остаться из заботы о жителях Острова, за жизни которых по пророчеству18 они несут ответственность перед Богом:
«…что же теперь будет с Островом, мир на котором, по предсказанию Агафона, зависел от нашего венчания?» (118).
Казалось бы, сюжетная линия Ксении в ключевых моментах ситуации выбора безбрачного брака идеально повторяет рисунок сюжетной линии Ульянии (желание уйти в монастырь — уступка мольбам мужа — безбрачный брак). Однако, как справедливо отмечено А. В. Архангельской, «ни один из топосов писатель не проводит от начала и до конца последовательно, но сталкивает их друг с другом, добиваясь на этих перекрестках новых смыслов и оттенков значений, углубляющих понимание образа» [Архангельская, 2022: 88]. Так происходит и в развитии данного мотива, связанного с внутренним конфликтом героини, что, естественно, не характерно для агиографического героя: «Скажу неожиданную — может быть, даже невероятную вещь. Я иногда думаю, что избранный мной путь не был единственно возможным. Настояв на жизни по любви совершенной, я лишила нас с Парфением чего-то важного» (120), — признается Ксения годы спустя. Отказ от плотского брака Ксения объясняет горением своей веры:
«Моя вера и сейчас горяча, но теперь это внутреннее горение, не требующее жестких поступков» (120).
Эта составляющая образа Ксении отлична от традиционно принятой в агиографии, не канонична, а является частью авторской рецепции. Не опираясь на традицию, но сочетаясь с ней, внутренняя рефлексия Ксении делает образ живым, динамичным, исполненным трагизма: «Глаза Парфения слезятся на ветру. Я не родила ему ребенка, и, думаю, напрасно» (218). Далее эмоциональный накал возрастает:
«Я кричу.
— Это был, — кричу, — мой выбор! А он сделал его своим, и потому нет для меня дороже человека. И теперь я не знаю, могла ли решать за двоих. Я об этом все время думаю <…>.
Он ведь хотел ребенка, а я его этого лишила. <…>
Я рыдаю так, как никогда не рыдала» (326).
Конфликт возникает не в отношении цели жизни Ксении, а в отношении выбора пути к этой цели: уподобиться Христу героиня могла и следуя «общему пути». По ее позднему признанию («Спустя годы (века)…»), в нем тоже «есть мудрость», ведь «он по-своему не проще пути для избранных. Порой — сложнее» (120). Таким образом, цель Ксении, заявленная в начале повествования, остается прежней и не меняется на протяжении всей ее жизни, коллизия касается лишь вопроса верности выбранному пути при достижении этой цели19.
Эффект от этого внутреннего конфликта достигается в том числе и с помощью художественного приема, используемого автором при изображении главных героев: повествование ведется от третьего лица (хрониста) и от первого (рефлексия самого героя). Подобный дискурс наррации преследует, на наш взгляд, несколько целей и направлен на решение разноуровневых проблем. Первый уровень касается возможности объективного и субъективного оценивания героя, совмещения различных точек зрения, создающих «объемный» образ праведника, сложный в своей архитектонике, уходящий от статичности и канонической типизации. Это, собственно, проблема создания художественного образа героя-праведника, литературного характера, доминантой которого должна быть идея праведности и святости. И тогда возникает вторая проблема: как изобразить святого в литературном характере, если святость относится уже не к литературе, а к Священному Преданию и агиографии как его форме? Во-долазкин ранее уже находил решение этой сложнейшей двуединой задачи в «Лавре». Как медиевист, автор знает, что каждый святой был, несомненно, неповторимой личностью, не сводящейся к «этикетному» набору топосов20.
Д. С. Лихачев связывал зарождение литературного характера в XVII в. с «разрушением идеализации» человека в житийном жанре21 (см. об этом: [Лихачев, 1970: 104–106]), приводя в пример «Повесть об Ульянии Осорьиной», в которой он видит появившийся интерес «к рядовому человеку, к быту, к конкретной исторической обстановке» [Лихачев, 1970: 104]. Продолжая исследование этой темы, современные ученые обозначают данный процесс «секуляризацей мировоззрения» (см. об этом: [Ужанков, 2007: 221–225]) и зарождения художественного метода, когда в литературу «проникает психологическая мотивация поведения героя» [Ужанков, 2007: 223]. Она приводит к тому, что «писатели <…> создают художественный образ, который диктует собственные, индивидуальные и вместе с тем типические черты» [Дроздова: 103]. Черты эти касаются и изменения в спо собе изображения праведника, при этом, если «жанровую доминанту составляет идея святости, то в противоречие с ней не могут входить избираемые автором средства создания жития» [Дорофеева, 2013: 377]. Можно предположить, что Водолазкин использовал этот прием и в поэтике образа Ксении: типические черты, присущие агиографическому герою, обогащаются чертами характерными, индивидуальными, о чем уже говорилось выше. Героиня обладает неповторимым внутренним миром. Так, например, (и в поэтике образа это важно!) Ксении присуща некоторая жесткость: и как жене (в эпизоде первой брачной ночи), и как правительнице (когда Ксения не хочет идти на уступки повстанцам, собираясь воевать с ними, но, следуя совету Парфения, решает «не проливать ненужной крови» (200)). Эпитет «жесткая» в отношении Ксении звучит и из уст хрониста, и из уст самой Ксении, в ее комментарии к происходящим событиям:
«Вскоре после восшествия Ксении на престол всем стало ясно, что она жестче своего мужа. Ксения принимала решения осторожнее, чем Парфений, и иногда казалось, что осторожность эта избыточна, но, приняв их однажды, никогда от них не отказывалась и следила за тем, чтобы все выполнялось неукоснительно. <…>
Вот я, оказывается, какая — а борцы за новую жизнь не знали. И хронист Илий не знал.
Видела, как Парфений улыбался, читая эти строки. Он-то знал» (172).
Автор уходит от шаблонности характера главной героини, строя ее образ в художественном пространстве романа. Так, например, Ксения ругается на кухне с соседкой:
«Только я вот, например, бранилась с соседкой, а Его Светлейшее Высочество нас разнимал. Вы даже не представляете, какой это был некрасивый эпизод» (290).
Или испытывает радость оттого, что досаждающий сосед по коммунальной квартире посрамлен:
«…Лукьян обвинял нас в воровстве керосина, пользовании его стульчаком в туалете и включением его кухонной лампочки. Со своего места он не видел, что его примус выключен, и страдал из-за выгорания керосина. Того, разумеется, что мы еще не успели украсть. Меня охватило злорадство» (255).
Очевидно, что автор создает именно литературный характер и прибегает к психологизму, который, по мнению Л. Гинзбург, начинается «с несовпадений, с непредвиденности поведения героя» [Гинзбург: 286].
Наделяя праведника чертами, не соответствующими читательскому ожиданию, автор наводит на еще одно важное размышление: святой не безгрешен, он может ошибаться и быть несовершенным, ведь безгрешен и свят лишь один Господь Иисус Христос, а люди святы Его святостью . Антропологически это объяснимо словами из Священного Писания: «Несть человек, иже жив будет и не согрешит» (3 Цар. 8:46). Эту мысль о греховности всякого человека утверждает и апостол Иоанн Богослов: «Аще речем, яко греха не имамы, себе прельщаем» (1 Ин. 1:8). На наш взгляд, именно такой подход к возможным ошибкам праведника (а грех буквально означает «промах», «ошибка») автор передает в образе Ксении. Например, в беседе, когда Ксения признается, что в ее жизни присутствовали «некрасивые эпизоды», в уста одного из персонажей вложен ответ на это сожаление: «Потому-то и неправильно жизнь сводить к эпизоду» (290). Действительно, если принимать во внимание весь сложный, лишенный схематичности и однородности образ Ксении, становится заметно, что «неукладываю-щиеся» в традицию индивидуальные черты не затмевают доминанты образа, выраженной в христианских идеях: прощения (когда князья прощают напавшего на них террориста), помощи ближним (за свои средства кормят нуждающихся) и любви к ним ( люди «любили Ксению за доброту ее и чистоту души» (126) ) , кроткого несения унижений (жизнь в бедности в коммунальной квартире), смирения ( «как же мы совершим такую дерзость <…>. Признаем себя, что ли праведниками и дерзнем говорить с Ним?» (397) ) и итогового самопожертвования — в мольбе за жителей Острова, которые не видели от князей «ничего, кроме любви и добра» (380).
Когда жители Острова погрузились в полное бесчестье и беззаконие, гора, по пророчеству, начала свое извержение. И единственные праведники, Парфений и Ксения, поднялись на нее, чтобы просить у Бога милости. Извержение прекратилось, а тел праведников не нашли. И хотя по пророчеству праведников должно было быть трое, а видели поднявшимися на гору только двоих, летописец заключает, что среди этих двоих был Господь, так как они прожили жизнь ради Него, следуя словам Христа: «…где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Получается, что их было трое, потому что с ними был Христос», — отмечает хронист (403). Очевидно, что подобное завершение романа является также ответом читателю на внутренние мучения Ксении о правильности выбранного пути — ее жертва, или, правильнее, их с Парфением (по ее, Ксении, настоянию) жертва, была принята Богом благосклонно. Важно отметить, что идея личного спасения, неотделимая от образа святого, в романе Водолазкина переходит на иной уровень, и, обретая новый масштаб, распространяется на всех жителей Острова, ведь праведники должны спасти не только себя: «…нашей наградой должны были стать человеческие жизни» (256). Автор оставляет читателя с надеждой не только на земное спасение островитян, но и на их духовное преображение, ибо «бывший еще вчера озлобленной толпой, в эту ночь народ превратился в собор сограждан, сонм милосердных», а после землетрясения в воздухе «растворена не злоба, но взаимные любовь и жалость» (401, 402). Такой нарратив, вслед за средневековой эстетикой, присущ произведениям Водолазкина.
Автор обращается к традиционной топике, выраженной в агиографических мотивах чудесного рождения, неотмирности святого, чуда, «безбрачного брака» и др. Доминантой пути героя, его главной целью является стремление к жизни во Христе , что помещает героиню в традиционный агиографический контекст, сближая с типом праведного святого. При этом автор намеренно усложняет образ, создавая, по сути, литературный характер с присущей ему противоречивостью и психологизацией. В образе героини заметны черты жесткости, «человеческой» эмоциональности, а также внутренний конфликт, связанный с сомнением в выборе между следованием «общему» пути и «безбрачным браком». Путь праведницы был угоден Богу, что подчеркивается автором через итоговое духовное преображение народа Острова. Таким образом, идея спасения, выраженная в житийных текстах, переносится Водолазкиным на почву современного русского романа, что позволяет говорить и о произведении в целом, и об образе героини-праведницы Ксении как о причастном агиографической традиции.
Literature of the 15th–17th Centuries. PhD. philol. sci. diss .]. Mytishchi, The Maxim Gorky Literature Institute Publ., 2019. 177 p. (In Russ.)
Список литературы Образ праведницы в романе Е. Водолазкина "Оправдание острова"
- Архангельская А. В. Поэтика чудесного в романе Евгения Водолазкина «Оправдание Острова» // Материалы ежегодной научной конференции МГУ «Ломоносовские чтения» (21–23 апреля 2021 г.). Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2021. С. 54–56.
- Архангельская А. В. Праведники и праведничество в романах Евгения Водолазкина «Лавр» и «Оправдание Острова» // Ученые записки Новгородского государственного университета. 2022. № 1 (40). С. 88–91 [Электронный ресурс]. URL: https://portal.novsu.ru/univer/press/eNotes1/i.1086055/?id=1864513 (10.12.2022). DOI: 10.34680/2411-7951.2022.1(40).88-91
- Беляева И. А., Тышковска-Каспшак Э. Архетипические константы и трансформации русского романа // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 3. С. 78–102 [Электронный ресурс].URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1633637694.pdf (10.12.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9842
- Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства: в 2 т. СПб.: Издание Д. Е. Кожанчикова, 1861. Т. 2: Древнерусская народная литература и искусство. 429 с.
- Бычков Д. М. Агиографический дискурс в современной русской прозе. Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2015. 200 с.
- Васильев В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков: (архетипы русской культуры): от Средневековья к Новому времени. Красноярск: ИПК СФУ, 2009. 258 с.
- Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л.: Худож. лит., 1976. 448 с.
- Дорофеева Л. Г. Человек смиренный в агиографии Древней Руси (XI — первая треть XVII века). Калининград: Аксиос, 2013. 436 с.
- Дорофеева Л. Г. Русская словесность в контексте национальной духовной традиции. Калининград: Издательство БФУ им. И. Канта, 2019. 180 с.
- Дорофеева Л. Г., Харитонова А. В. Трансформация агиографической традиции в повести Л. Улицкой «Сонечка» // Мир русского слова. № 1. 2022. С. 48–54. DOI: 10.24412/1811-1629-2021-3-14-21
- Дроздова М. А. Эволюция женского образа в русской литературе XV–XVII веков. … дисс. канд. филол. наук. Мытищи: Литературный ин-т им. М. А. Горького, 2019. 177 с.
- Казаков В. П. Функции вставных конструкций в зеркале коммуникативных регистров речи (в романе Е. Г. Водолазкина «Авиатор») // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2020. № 17 (4). С. 633–649 [Электронный ресурс]. URL: https://languagejournal.spbu.ru/article/view/10461 (10.12.2022). DOI: https://doi.org/10.21638/spbu09.2020.409
- Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М.: Наука, 1970. 179 с.
- Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л.: Худож. лит., 1971. 414 с.
- Никулина Е. Н. Агиология: курс лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. 344 с.
- Руди Т. Р. Краткая редакция «Повести об Ульянии Осорьиной» и «Обретение мощей преподобной Ульянии» (текстологический анализ) // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Изд-во АН СССР, 1992. Т. 45. С. 286–304.
- Руди Т. Р. Праведные жены Древней Руси (к вопросу типологии святости) // Русская литература. 2001. № 3. С. 85–92.
- Руди Т. Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика / ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. Т. 1. С. 59–101.
- Солдаткина Я. В. Современная словесность: актуальные тенденции в русской литературе и журналистике. М.: МПГУ, 2015. 160 с.
- Солдаткина Я. В. Диалог с русской литературой XX века в романах Е. Водолазкина «Лавр» и «Авиатор» // Знаковые имена современной русской литературы: Евгений Водолазкин. Краков: Изд-во Ягеллонского университета, 2019. Т. 2. С. 309–318.
- Трофимова Н. В. Традиции древнерусской литературы в романе Е. Г. Водолазкина «Лавр» // Rhema (Рема). 2016. № 2. С. 7–12.
- Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре: в 2 т. М.: Гнозис — Школа «Языки русской культуры», 1995. Т. 1: Первый век христианства на Руси. 875 с.
- Федотов Г. П. Собр. соч.: в 12 т. М.: Мартис, 2000. Т. 8: Святые Древней Руси. 268 с.
- Черняк М. А. Печально я гляжу на наше поколенье, или Старые вопросы в новой прозе XXI века // Бюллетень ученого совета РГПУ. 2006. № 7. С. 68–70.
- Ужанков А. Н. О проблемах периодизации и специфике развития русской литературы XI — первой трети XVIII века. Калининград: РГУ им. И. Канта, 2007. 292 с.
- Ужанков А. Н. Картина мира древнерусского книжника. Категории русской средневековой культуры. М.: Институт Наследия, 2022. 212 с. [Электронный ресурс]. URL: https://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2022/05/2022_kartina-mira-drevnerusskogo-knizhnika_s-oblozhkoj.pdf (10.12.2022). DOI: 10.34685/HI.2022.86.40.004
- Шайкин А. А. Александр Македонский и герои романа Евгения Водолазкина «Лавр» // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 20. М.: ИМЛИ РАН, 2021. С. 611–619 [Электронный ресурс]. URL: https://old-rus-imli.ru/ru/germenevtika-arkhiv/58-germenevtika-drevnerusskoj-literatury-sbornik-20/280-aleksandr-makedonskij-i-geroi-romana-evgeniya-vodolazkina-lavr (10.12.2022). DOI: https://doi.org/10.22455/HORL.1607-6192-2021-20-611-619