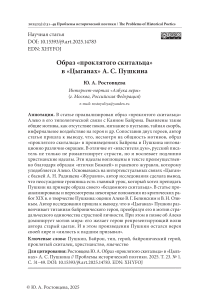Образ «Проклятого скитальца» в «Цыганах» А. С. Пушкина
Автор: Ростовцева Ю.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирован образ «проклятого скитальца» Алеко в его типологической связи с Каином Байрона. Выявлены такие общие мотивы, как отсутствие покоя, изгнание в пустыню, тайная скорбь, инфернальное воздействие на героя и др. Сопоставив двух героев, автор статьи пришла к выводу, что, несмотря на общность мотивов, образ «проклятого скитальца» в произведениях Байрона и Пушкина интонационно различно окрашен. В отличие от «властителя дум», русский писатель не только не романтизирует страсти, но и воспевает подлинно христианские идеалы. Эти идеалы воплощены в тексте преимущественно благодаря образам «птички Божией» и раненого журавля, которому уподобляется Алеко. Основываясь на интертекстуальных связях «Цыган» с басней А. Н. Радищева «Журавли», автор исследования сделала вывод, что неосуждение грешника есть главный урок, который хотел преподать Пушкин на примере образа своего «бездомного скитальца». В статье проанализированы и пересмотрены некоторые положения из критических работ XIX в. о творчестве Пушкина: оценки Алеко В. Г. Белинским и В. Н. Олиным. Автор исследования пришла к выводу, что в «Цыганах» Пушкин развенчивает титанизм байронического героя, преобразуя его в мотив страдальческого одиночества страстной личности. При этом в поэме об Алеко доминирует мотив мира: его желает герою репрезентирующий волю автора старый цыган. И в этом произведении Пушкин остался верен своей лире и «милость к падшим призывал».
Пушкин, байрон, тип, герой, байронический герой, проклятый скиталец, христианство, язычество
Короткий адрес: https://sciup.org/147247813
IDR: 147247813 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.14783
Текст научной статьи Образ «Проклятого скитальца» в «Цыганах» А. С. Пушкина
Т рудно найти романтика, в творчестве которого не обнаруживается интерес к кому-либо из «проклятых скитальцев» —
Агасферу, Каину или Летучему голландцу [Зыкова: 53]. Если говорить о Пушкине, то первый «несчастный скиталец» появляется в его творчестве вместе с выходом в свет поэмы «Цыганы» (1827). Именно так в знаменитой «Пушкинской речи» назвал Алеко Достоевский [Достоевский: 137]. Подобный герой представляет собой отрицательный тип человека, оторванного от почвы. Как справедливо выразился В. Н. Захаров, «для Достоевского "почва" — все, что родит и роднит: народ, родина, родная речь, родная земля. Их объединяет тайна, которая заключается в том, что Россия — хранительница православия, что "идеал народа — Христос"» [Захаров: 14]. Оторванный от православия, отошедший от истинного Бога, потерявший путь, беспутный, скиталец — связь с христианской традицией здесь очевидна. Однако есть и другая связь.
В 1821 г. к образу первого скитальца на земле обращается Дж. Г. Байрон. В драматической мистерии о Каине «нашла свое выражение квинтэссенция байронического богоборчества» [Виролайнен: 183]. Вопрос о влиянии Байрона на Пушкина изучен1. Известно, что поэт читал «властителя дум» на языке-оригинале [Баевский, 1996: 5], а влияние его творчества отразилось уже в «Руслане и Людмиле» [Топоров: 208]. Вяземский прямо указывал: «Вероятно, не будь Байрона, не было бы и поэмы "Цыганы" в настоящем их виде» [Вяземский: 318]. Ту же зависимость отмечали И. В. Киреевский [Киреевский: 51] и С. П. Шевырев2.
Вместе с тем в прижизненной критике не упоминалось о сходстве дву х персонажей: байроновского и пушкинского3.
Впервые типология Каин — Алеко была заявлена в трудах Вяч. Иванова. Критик усмотрел три формации, указывающие на постепенное вызревание «Цыган». В основе первой, по его мысли, лежало «трагическое чувство роковой отчужденности индивидуалиста-мятежника, скитальца Каина» [Иванов: 201]. Позднее Ю. В. Манн сопоставил мир первых людей, описанный Байроном, с цыганской общиной Пушкина, привел Алеко и Каина к общему знаменателю буйной страсти [Манн, 2007: 100]. На этом история сопоставления двух героев была исчерпана. В настоящей статье предлагается вновь обратиться к заявленной проблематике, чтобы с ее помощью проанализировать образ «проклятого скитальца» в «Цыганах».
Первое семантически окрашенное слово, которым обрамляется образ Алеко, — это пустыня. Примечательно, что изначально вместо него стояло «распутие», которое имело другой, отличный от конечного текста коррелят: распутие — ( цыганский ) закон.
Черновая редакция «Отец мой дева говорит — Я привела тебе родного — Я на распутии нашла Красавца друга молодого — И к нам зазвала…
Ему по нраву наш закон …» [Пушкин, 1994: 409].
Итоговый текст
«Отец мой, — дева говорит, — Веду я гостя; за курганом
Его в пустыне я нашла
И в табор на ночь зазвала… Его преследует закон …» [Пушкин, 1994: 180].
Оставить все в первоначальном виде — не отвечало пушкинскому замыслу, ведь цыгане «дики», у них нет законов. Однако представляется, что, инкорпорируя в текст слово «пустыня», автор апеллировал к древнейшему архетипу: грех — пустыня. Издревле пустыня являлась местом изгнания за злодеяния. Туда в Ветхом Завете выставляется козел отпущения, туда же отправляются оплакивать свои падения христианские святые (напр., преподобная Мария Египетская). Исходя из контекста, можно предположить, что Алеко уже расплачивается своими скитаниями за какой-то смертоносный грех. И хотя блуждания героя лежат где-то за гранью поэтического рассказа, некие намеки («его преследует закон»), указание на уснувшие до времени страсти и, наконец, произнесение Алеко в «страшных мечтах» другого имени свидетельствуют о том, что в его жизни уже совершено преступление [Томашевский; кн. 1: 617], [Манн, 1976: 79–80, сноска 66], из-за чего весь образ героя приобретает черты бунтаря и богоборца. Примечательно, что предтеча пушкинского «убийцы» — байроновский Каин — после совершенного им греха также изгоняется первыми людьми в пустыню:
«Да будут же над ним
Проклятья всех живущих, и в мученьях Пусть он бежит в пустыню, как бежали Из рая мы…» [Байрон: 460].
Так, пустыня является тем локусом, который «объединяет» героев.
Библейский Каин «был от лукавого» (1 Ин. 3:12). То же можно сказать и о байроновском герое. Неслучайно Люцифер узнает в нем своего почитателя: «Но не поклонник Бога — мой поклонник» [Байрон: 399]. Следствием гордыни является бесприютность. Так, Каин начинает скитаться до того момента, как будет обречен Творцом на скитальчество:
«Он не страшнее тех, что потрясают
Горящими мечами пред вратами,
Вокруг которых часто я скитаюсь , Чтоб на свое законное наследье — На райский сад взглянуть хотя мельком, Скитаюсь до поры, пока не скроет Ночная тьма Эдема и бессмертных
Эдемских насаждений…» (здесь и далее в цитатах полужирный курсив мой. — Ю. Р .)
[Байрон: 389].
«Изгнанником» на страницах пушкинской поэмы предстает и Алеко [Пушкин, 1994: 183].
Драма бунтарской души разворачивается в обоих произведениях на фоне locus amoenus4. Райские коннотации присутствуют в описании первой человеческой семьи и цыганского табора. На общину цыган как идеализированный образ «золотого века» указыва л еще современник Пушкина И. В. Киреевский:
«Подумаешь, автор хотел представить золотой век, где люди справедливы, не зная законов; где страсти никогда не выходят из границ должного; где все свободно, но ничто не нарушает общей гармонии, и внутреннее совершенство есть следствие не трудной образованности, но счастливой неиспорченности совершенства природного» [Киреевский: 50]. Впоследствии Вяч. Иванов назвал описанный Пушкиным цыганский табор «раем первобытной гармонии», в котором «нарушение равновесия живых сил возникает не иначе, как по вине извечно той же древней Евы или Пандоры» [Иванов: 198].
Казалось бы, в «Каине» описанию райской действительности не должно быть места, ведь первые люди обречены на скорбь (Быт. 3:16–19). Однако и здесь присутствует мотив легкого труда и добывания пищи, столь характерный для описания земного рая:
«Адам
Молитва наша кончена, идемте К своим трудам урочным, не тяжелым, Но все ж необходимым: нивы щедро Нам воздают за малый труд» [Байрон: 388].
«Ада
Я за тобой: уж полдень, — наступает Час отдыха и радости» [Байрон: 401].
Скорбь и ропот на унаследованную долю присутствуют лишь в словах Каина, в то время как его присные беспрестанно славословят Бога и пребывают в состоянии, которое можно было бы описать как блаженное. И если чета первых людей, их дети (кроме Каина) обладают истинным благочестием, цыгане Бессарабии, по собственному наблюдению Пушкина, «отличаются перед прочими большей нравственной чистотой» [Пушкин, 1978: 15]. Словно развивая его мысль, Ю. Манн замечал об этом народе: «Воля существует здесь без жестокости, жизнелюбие без алчности и хищничества. Наоборот, и воля, и жизнелюбие, и гостеприимство совмещаются с терпимостью и душевной мягкостью» [Манн, 2007: 96]. Совершенно отличны, резко контрастны на этом фоне образы духовных скитальцев.
Так, байроновский Каин восстает и против молитвы, и против первой Божественной заповеди — о труде (Быт. 2:15):
«Я никогда еще
Пред божеством отца не преклонялся…» [Байрон: 399];
«Трудись, трудись! Но почему я должен Трудиться? Потому, что мой отец
Утратил рай. Но в чем же я виновен?» [Байрон: 389].
Гордый Алеко противится законам гражданским, общественным и, надо полагать, Божественным, «так выявляется центральная в сюжете поэмы оппозиция страсти — нравственный закон» [Жилина, 2009: 74]. Как носители сильных страстей, «проклятые скитальцы» Байрона и Пушкина не имеют внутреннего мира. Каин восклицает:
«Ничто не даст душе моей покоя, Да я и никогда, со дня рожденья, Не знал его» [Байрон: 451].
В «Цыганах» данный мотив обрамлен особой риторикой. Как показал Б. Томашевский, одно из важнейших «словарных гнезд» поэмы — эпитеты «мирный», «тихий», применимые к цыганскому табору [Томашевский; кн. 1: 648]. Алеко становится «вольным жителем мира» [Пушкин, 1994: 183] цыган, но так и не обретает душевного успокоения. Косвенной причиной отсутствия мира является инфернальное существо, которое воздействует на героя. В первом случае это Люцифер. Во втором — «домашний дух» [Пушкин, 1994: 191], который ночью мучит бездомного скитальца. Во сне Алеко видит «страшные мечты» [Пушкин, 1994: 192] и произносит «другое имя» [Пушкин, 1994: 191]. Так, пушкинский герой наследует байроновскому Каину, который, согласно проклятию, «грезит во сне своею жертвой» [Байрон: 460].
Другой общий мотив — мотив тайной скорби. Каин — носитель потаенной печали — с особой силой предается ей после убийства брата (ср.: «Ева. <…> Да будет он снедаем вечной скорбью…» [Байрон: 459]), в то время как Алеко уже имеет «грусти тайную причину» [Пушкин, 1994: 183] как следствие необузданных страстей, ставших источником какого-то раннего греха [Пушкин, 1994: 180]. О мировой скорби как о романтически прекрасной черте байронического героя написано немало [Елистратова: 3], [Кургинян: 10]. Подобный взгляд приводится в «Литературной энциклопедии» 1931 г.: «Поколения анонимных слагателей легенд о Каине, писателей и поэтов, утверждали этот традиционный взгляд на Каина, воспитывали вековое презрение к нему. Байрон опрокинул традицию, объявил Каина праотцем свободного человеческого духа и приковал к нему внимание всех мыслящих современников. Поколение Байрона без конца повторяло, что Каин — не презренный, не изверг, а символ мировой скорби» [Нусинов: стлб. 49]. Пожалуй, в этом отличительная черта пушкинского гения применительно к «Цыганам» — он не романтизирует страсти. Примечательно высказывание П. В. Анненкова: хотя Алеко и навеян Байроном, «трагического величия героев его в нем нет нисколько» [Анненков: 136]. Показывая духовный путь своего героя, писатель «вскрывает общую психологическую закономерность: пытаясь во всем утвердить свою волю, отвергнув Нравственный Закон, человек тем самым отдает свою душу во власть темным стихиям» [Жилина, 2008: 10].
В двойном убийстве Алеко и воздействии этого преступления на цыганскую общину Ю. Манн усмотрел сходство с преступлением героя Байрона: «…применительно к действию поэмы можно повторить сказанное Циллой: "В мир смерть вошла". Потому что цыганская община имеет свою историческую память (в форме предания), которая еще не успела зафиксировать ничего подобного тому, что совершил Алеко» [Манн, 2007: 107]. Любопытно, что Л. Флейшман, исследуя семантический уровень пушкинской поэмы, также описывал цыганский табор как «мир, не знающий "смерти"» [Флейшман: 31]. Когда в мир входит смерть (рукою Каина или Алеко), то она поражает своих творцов тяжким сном души. Укажем лишь на то оцепенение, в которое впадают оба персонажа после совершения убийства. Каин не понимает, где он:
«Так где же я? Во сне иль наяву,
В каком-то страшном мире? Все кружится
В глазах моих…» [Байрон: 457].
Внутренний монолог Алеко не представлен в «Цыганах», но по действиям героя также можно судить о некоем обмирании: на протяжении всего того времени, пока убитых предают земле, он пребывает недвижим:
«Алеко за холмом,
С ножом в руках, окровавленный
Сидел на камне гробовом» [Пушкин, 1994: 201].
До первого человекоубийства байроновский Люцифер указывает Аде, жене Каина, на семя переполненного ада, которое она и все люди носят в своей груди. Семя ада — это то самое «семя тли», о котором говорится во 2-й молитве (святого Антиоха) из молитв на сон грядущим: «…не остави мене, яко семя тли во мне есть»5. Апостол Павел предупреждает: «Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6: 7–8). В этом смысле можно сказать, что личные грехи, поступки «от плоти», являются «семенами тления». В поэме Пушкина также есть носитель подобных семян. «Но, Боже, как играли страсти <…> в его измученной груди» [Пушкин, 1994: 184], — говорится об Алеко.
Греческий ученый-богослов митрополит Иерофей (Влахос), отвечая на вопрос «Что такое страсти?», поясняет: «Слово "страсть", как легко видеть, происходит от глагола "страдать" и обо-значает внутреннюю болезнь»6. Болезнь — это то, что тяготит, мучает. В словах Пушкина мы замечаем мотив этого самого мучения — « измученной груди». Следует отметить, что в границах всего одной строчки лирического отступления сразу три слова маркированы сакрально: «Бог», «страсти» и «измученной». Они указывают на христианство как аксиоло гическую сист ему автора7.
Отметим, что Алеко изначально создавался Пушкиным как представитель языческой картины мира. Так, знаменательно, что в черновиках к «Цыганам» тема насмешки над истинной верой проступала еще более рельефно:
Черновая редакция «Любви стыдятся, мысли гонят У суеверных алтарей Главы пред идолами клонят И молят денег и цепей» [Пушкин, 1994: 440].
Итоговый текст
«Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей ,
Главы пред идолами клонят И просят денег да цепей» [Пушкин, 1994: 185].
Согласно словарю Д. Н. Ушакова, суеверие значит «религиозный предрассудок, представляющий явления и события в жизни проявлением чудесных сверхъестественных сил»8. То, что для Алеко как представителя XIX столетия суеверным мог быть алтарь, очень символично. Впоследствии религиозно окрашенное «у суеверных алтарей» было заменено на «торгуют волею своей», но это не изменило ценностных установок героя в конечном тексте: очевидно, что вместе с оковами просвещения Алеко презирает и уставы христианской религии. Характерно тождество Д. С. Мережковского: «Алеко — культура и язычество» [Мережковский: 115].
Совершенно иной идеал — авторский. Он представлен в виде образа «птички Божьей»:
«Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда;
Хлопотливо не свивает Долговечного гнезда;
В долгу ночь на ветке дремлет; Солнце красное взойдет, Птичка гласу Бога внемлет , Встрепенется и поет» [Пушкин, 1994: 183].
С помощью этого образа, по словам Вяч. Иванова, Пушкин «прямо противопоставляет богоборству абсолютной самоутверждающейся личности идею религиозную» [Иванов: 216]. Едва ли похож на «птичку Божию» Алеко, которого манит дальняя звезда «волшебной славы», роскошь и забавы. Вместе с тем в границах небольшой поэмы Алеко дважды уподобляется птице. Образ раненого журавля признавался пронзительным (см.: [Фридман: 118]), но до сих пор не высказано идеи, для чего он нужен Пушкину. Представляется, что с его помощью автор хотел вызвать сострадание к своему герою и в то же время призвать читателя не судить его. Примечательны интертекстуальные связи, на которые указал Н. В. Фридман: «Трагическая сущность этого сравнения особенно полно и резко выявляется при его сопоставлении с близким к нему местом предромантической басни Радищева "Журавли"», которую Пушкин считал элегией не без достоинств [Фридман: 119]. В этом произведении выводится образ раненой птицы, над которой смеются ее пернатые собратья, но дидактизм «басни» поражает: «насмешники в воду упали», а раненый журавль «землю узрел, вожделенну душею, / Ясное небо и тихую пристань» [Радищев: 126]. В свете ретроспективной проекции Пушкин как будто провозгласил: наблюдайте «каждый за собою, чтобы не быть искушенным» (Гал. 6:1) и «не судите» (Мф. 7:1): тот, кто сегодня пал, еще может достигнуть цели. Этот подспудный смысл, к сожалению, не был выявлен критиками. Так, Белинский увидел в поэме «страшную сатиру» на Алеко «и на подобных ему людей», «суд неумолимо трагический и вместе с тем горько иронический» [Белинский: 386]. Однако автор не судит своего героя уже потому, что старый цыган, который в поэме «сродни резонерам XVIII в. или хору античной трагедии» [Томашевский; кн. 1: 618], не выносит ему обвинительного приговора. В словах старика: «Оставь нас…» [Пушкин, 1994: 201], «Прости, да будет мир с тобою…» [Пушкин, 1994: 202] — слышно эхо признаний байроновского Адама: «Иди от нас: мы жить не можем вместе» и «Я не кляну» [Байрон: 461].
Мотив мира — то, чем отличается русская поэма от английской мистерии. Пребудет ли на Каине мир? Достоин ли он мира? Этот вопрос остается открытым и не разрешенным даже для самого героя. Произведение заканчивается словами
Ады об Авеле: «Мир ему!» — и тревожным вопрошанием Каина: «А мне?» [Байрон: 466]. В «Цыганах» старик, репрезентирующий волю автора, желает Алеко мира. И, надо полагать, в этом милостивом пожелании мерцает суждение Пушкина. Критик первой половины XIX в. В. Н. Олин назвал Алеко «существом несколько морально-безобразным, конвульсивным, вышедшим из обыкновенного или натурального состояния души» [Олин: 200]. Совсем иное впечатление, думается, пытался произвести на читателя своим раненым «журавлем» Пушкин. И в этом произведении он остался верен своей лире и «милость к падшим призывал».
Как справедливо заметили М. Новикова и позднее В. Баевский [Баевский, 2011: 57], в образе «птички Божией» можно увидеть евангельскую реминисценцию: «песня эта внятно отзывается евангельской притче о птицах небесных» [Новикова: 263], которые, как сказано Спасителем, «ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы», но «Отец <…> Небесный питает их» (Мф. 6:26). Однако в поэме Пушкина нет таких «птиц». Ни Земфира, которая, по словам старого цыгана, «вольнее птицы», ни Алеко, ни сам старик не отвечают этому высокому идеалу. Все герои находятся в одной, языческой, плоскости. Злой изменой Земфиры Пушкин как бы дает понять, что и в этом, почти идиллическом, мире господствуют «страсти роковые». В силу того, что страсти именно «роковые» , а рок — это языческая категория9, и «от судеб защиты нет»10. Что привело Земфиру к смерти? Скука. «Мне скучно! Сердце воли просит» [Пушкин, 1994: 191]. Что испытал по ее смерти старый цыган? «Немое бездействие печали» [Пушкин, 1994: 201]. Но будь они, да и сам раненый свинцом страсти Алеко действительно подобны птичке Божией, которая «гласу Бога внемлет», не было бы ни скуки, ни горя. Сравним:
« Людям скучно, людям горе ;
Птичка в дальние страны, В теплый край, за сине море Улетает до весны» [Пушкин, 1994: 183].
Благодаря этому христианскому смыслу, который мерцает в поэме, стоит не согласиться с тем, что в «Цыганах» Пушкин «решил вопрос о страстях как романтик особого типа, выдвигающий один из вариантов языческого, греческого понятия судьбы и вместе с тем влюбленный в жизнь, в " земную " природу человека» [Фридман: 127]. В образе «птички Божьей» автором дан поистине прекрасный, небесный идеал, которому в его поэме, увы, просто не нашлось соответствий.
Итак, в «Цыганах» Пушкин развенчивает величественный титанический образ «проклятого скитальца», преобразуя его в уязвимый страстью, достойный сострадания. Справедливы слова Д. Д. Благого, что суровый приговор старика-цыгана относится не к одному лишь Алеко. Уже в первой главе «Евгения Онегина» Пушкин назвал «поэтом гордости» Байрона. «Слова старика-цыгана: "Оставь нас, гордый человек" — определяют отношение к "байроническому" герою, герою-индивидуалисту самого Пушкина» [Благой: 326] — поэта, который всего через два года провозгласит самоотверженное и смиренное служение лире и людям в своем «Пророке».