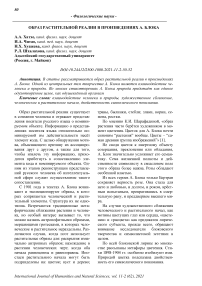Образ растительной реалии в произведениях А. Блока
Автор: Хатхе А.А., Читао И.А., Хуажева Н.Х., Шхалахова Р.Л.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 11-2 (62), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается образ растительной реалии в произведениях А. Блока. Одной из центральных тем творчества А. Блока является взаимодействие человека и природы. Во многих стихотворениях А. Блока природа предстаёт как единое одухотворённое целое, как одушевлённый организм
Взаимодействие человека и природы, художественное сближение, человеческое и растительное начало, двойственность символического понимания
Короткий адрес: https://sciup.org/170192608
IDR: 170192608
Текст научной статьи Образ растительной реалии в произведениях А. Блока
Образ растительной реалии существует в сознании человека и отражает представления носителя русского языка о номинируемом объекте. Информацию о представлениях носителя языка относительно номинируемой им действительности несёт элемент кода. С целью обнаружения мотива, объясняющего причину их ассоциирования друг с другом, а также для того, чтобы извлечь эту информацию, приходится прибегнуть к сопоставлению элемента кода и номинируемого объекта. Одним из этапов реконструкции представлений русского человека об интеллектуальной сфере служит осуществление такого сопоставления.
C 1901 года в текстах А. Блока возникают и эволюционируют образы, в которых сопрягаются человеческий и растительный элементы. Структура их не однотипна. Встречаются традиционные метафорические сближения растения и человека, но особый интерес вызывает то, что можно назвать антропофитными образами, мерцающими гротесками, в которых человеческое и растительное нераздельны. Различаются случаи, когда поэт использует растительные образы для: раскрытия изначально антропных образов; нахождение в растении человеческих черт; когда оба начала равноценны и равноправны. Ипостаси растительного начала могут быть подразделены на: цветок; куст и дерево;
травы, былинки, стебли; злаки, корни, семена, ростки.
По мнению К.И. Шарафадиной, «образ растения часто берётся художником в момент цветения. Цветок для А. Блока почти синоним “растения” вообще. Цветы – “самая древняя группа изображений”» [1].
Не сводя цветок к инертному объекту созерцания, преклонения или обладания, А. Блок значительно усложняет его семантику. Сема жизненной полноты и действенности символисту в смысловом поле этого образа более важна. Розы обладают особенной властью.
Из всех героев А. Блока только Бертран сохраняет верность розе. Она стала для него и любовью, и долгом, и роком, крёстным испытаньем, превратившись в смертельную рану, и преддверием высшего мира.
На случаи художественного сближения человеческого и растительного начал, как мотивы цветущих глаз или сердца, «цветения» и «расцвета» как предикатов лирического субъекта, прежде всего, обращают внимание исследователи блоковского творчества и символистской эстетики в целом.
По всей блоковской лирике во множестве рассыпаны метафоры цветения. Стихи 1898-1904 гг. особенно изобилуют ими. Природой цветка подсказана двойственность его символического понимания.
Мягкой грусти, самоотрешённой преданности в любви исполнены антропофит-ные женственные образы «первого тома» лирики Блока. Монологи этих образов обращены к избраннику, который также может получить флористическую идентификацию: «Василёк мой синий, // Я твоя сестра». Встречается и стихотворение, в котором лирический герой обращается к девушке-цветку: «Ты, полный страсти ночной цветок, // Полюбила мои черты» [2].
Семантика цветочных образов не исчерпывается аспектами соблазна, страсти и жертвенности. Не только красота растений, но и их жизнестойкость вдохновляет А. Блока. В 1909 г. он создаёт коллективный человеческий образ, сближая с флористическим началом, поэт прославляет народ - «...венец земного цвета. Красу и гордость всем цветам» [3].
Ночная Фиалка из одноимённой поэмы и статьи «Безвременье», написанных в 1906 г., является наиболее выразительным антропофитным образом в творчестве А. Блока. Ночная Фиалка А. Блока является не обрамлением лика девушки в отличие от Голубого Цветка Новалиса: «лепестки образовали широкий голубой воротник, из которого выступало нежное личико» [4].
В мире поэта одним из ведущих является флористический образ, его роль много-планова, и эта смысловая сложность максимально сближает цветок с человеком.
Поэт мог почерпнуть знание о панпсихических представлениях народа из трудов А.Н. Афанасьева, утверждающего, что «древний человек всюду находил и разум, и чувство, и волю... В скрипе расколотого дерева он узнавал болезненные стоны...» [5].
Мужской персонаж Блока, начиная с лирического «я» стихотворения 1902 г., как правило, отождествлён и связан с деревом (зеленею таинственный клён). «Когда человек родится, он слаб и гибок; когда он умирает, он крепок и чёрств. Когда дерево произрастает, оно гибко и нежно, и когда оно сухо и жёстко, оно умирает... Что отвердело, то не победит» [4].
В поэзии и прозе А. Блока связь образов куста и человека может иметь форму обычного сравнения, или принять вид парадоксальной реминисценции, синтезирующей античный и библейский сюжеты: «Кто-то мне говорит, что я могу стать Купиной. Преследуемый Аполлоном, я превращусь в осенний куст золотой... на лесной поляне. Ветер повеет, и колючие мои руки запляшут свободно» [4].
С холодной, «русальной» женственностью ассоциированы травы, стебли, былинки: «Бледные девушки прячутся в травы. Руки, как травы, бледны и нежны». «Бледная травка. Обречённая жить без весны». «Её контрастным воплощением», по замечанию С.Ю. Ясенского, она оказывается двойником Ночной Фиалки [6].
О.В. Февралёва пишет, что «особой семантической нагрузкой обладает и излюбленное блоковское слово «злак», отвлечённое и сакрализованное, метонимически возводимое к евангельским растительным символам, в частности, к пшеничному зерну, символу жертвенной смерти и воскресения Христа, а также к языческим аграрным культам» [7].
Андрогинностью обладает антропофит-ный образ злака, его «человеческий» компонент зачастую - синтез мужского и женского начал. Злак - вещее растенье-существо, хранящее эсхатологическое знание: «Шепчет и клонится злак голубой». В контексты, повествующие о смерти и ожидаемом воскресении или затаённой жизни, часто включён злак: «Этот злак, что сгорел, не умрёт» [7].
На мысль о некоем «флористическом» этапе историко-культурного становления человека натолкнули поэта древнеегипетские рисунки, изученные им. Фигура египтянина представляет треугольник, обращённый вершиной вниз. Как будто три с половиной тысячи лет назад человек рос из земли, расширяясь, как цветок.
О возвращении антропофитности как онтологического принципа поэт едва ли помышлял, но растительное начало воспринималось им как сложный и важный уровень человеческой естественности, влияющий на жизнь в целом и обогащающий её.
Таким образом, среди многих средств в поэзии используется метафора, которая не просто одушевлённа, но и антропоморфна. В художественных произведениях и поэ- зии прослеживается приписывание растениям чувств, характерных для человеческой души. Картины природы и отдельные природные образы проводят психологическую параллель с личностью человека.