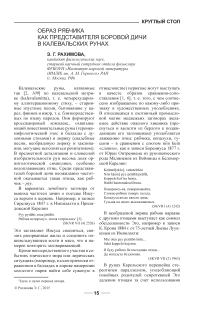Образ рябчика как представителя боровой дичи в калевальских рунах
Автор: Рахимова Элина Гансовна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Семинар с международным участием теория и практика современной Финно-Угристики филологические науки
Статья в выпуске: 2, 2015 года.
Бесплатный доступ
Автором характеризуется образ рябчика в орнитологической символике рун калевальской метрики, фигурирующий как в предметном мире, так и в качестве референта художественных уподоблений и других средств словесной изобразительности.
Эпический мир, "калевала", песня, руна, орнитологическая символика
Короткий адрес: https://sciup.org/14723184
IDR: 14723184
Текст научной статьи Образ рябчика как представителя боровой дичи в калевальских рунах
ФГБОУН «Институт мировой литературы
(ИМЛИ) им. А. М. Горького» РАН
(г. Москва, РФ)
Калевальские руны, названные так [2, 109 ] по калевальской метрике (kalevalamitta), т. е. четырехударному аллитерационному стиху, – старинные изустные песни, бытовавшие у карел, финнов и ижор, т. е. близкородственных по языку народов. Они формируют кроссжанровый комплекс, охватывающий повествовательные руны (героикомифологический эпос и баллады с духовными стихами) и лирику (свадебные песни, необрядовую лирику и заклинания, могущие исполняться речитативом). В предметной детализации и словесной изобразительности рун весома доля орнитологической символики, особенно водоплавающих птиц. Среди представителей боровой дичи неожиданно частотной оказывается такая птица, как рябчик – pyy .
В вариантах лечебного заговора от вывиха частотен зачин о поездке Иисуса верхом в церковь. Например, в записи Сирелиуса 1847 г. в Импилахти в Прила-дожской Карелии
Pyy pyrähti, maa järähti.
Рябчик вспорхнул, земля сотряслась1 [3].
(SKVR VII (4) 2526)
Это заставляет Иисуса спешиться, связать разорванные жилы и соединить пошевельнувшиеся кости и мясо, что и намерен повторить заговаривающий.
Кроме непосредственного участия в событиях эпического мира или лирических ситуациях (например, в аллегорически отраженном в балладах и лирике намерении холостого парня найти себе суженую в птицеловстве) пернатые могут выступать в качесте образов сравнения-сопоставления [1, 6], т. е. того, с чем соотнесено изображаемое по какому-либо признаку в художественных уподоблениях. В относящихся к охотничьей промысловой магии медвежьих заговорах желаемое действие опасного хищника (проснуться и вылезти из берлоги к поджидающим его загонщикам) уподобляется движению птиц: рябчика, копалухи, гусыни – в сравнении с союзом niin kuin «словно», как в записи Борениуса 1877 г. от Юрки Онтреинена из рунопевческого рода Малиненов из Войницы в Беломорской Карелии:
Keäntel[ekše], veäntelekše
Niin k[uin] pyy pešähä peällä, Koppelo kot'isa luona, Hańhi hautomaksoillensa.
Повернись-ка, поворачивайся, Словно рябчик поверх гнезда, Копалуха возле своего дома, Гусыня на своих высиживаемых.
(SKVR I (4) 1242)
В необрядовой лирике рябчик наравне с другими птицами выступает как символ обездоленности Эго, например в записи К. Крона 1884 г. от 75-летней Лиены Луук-конен из Импилахти:
Mie olen pyy pesätön lintu...
Sekä koppelo kojeton.
Я буду рябчик безгнездовая птица...
Да копалуха бездомная.
(SKVR VII (2) 1965)
В рунах Карельского перешейка cте-реотипен параллелизм, уподобляющий покойных родителей осиротевшей Эго далеким птицам за счет использования
®
Финно – угорский мир. 2015. № 2
компаратива наречия, как в записи Ко-скиваара 1913 г. из Метсяпиртти прихода Васкела от Оуте Ерла, в которой сиротка пытается пошевелить намогильный крест, но покойный отец запрещает ей сделать это:
Etähäll on pyy saloss', kaikall' on kalat meress', etempiäll' on siu emmois'.
Далеко ведь рябчик в чаще, глубоко ведь рыбы в море, твоя мама того дальше.
Suap' verkoll' kalat veest', pyssyllä pyyt salosta; sua ei etsiinkiä emosta, valitenkua vanhempua.
Достанешь сетью рыб из воды, ружьем рябчика из чащи, не найдешь даже при поисках мамы, даже жалобами родительницы.
(SKVR XIII (1) 2146)
В героико-мифологических рунах в частотном уподоблении стремительно отплывающей боевой ладьи голосам птиц, в основном водоплавающих, фигурирует и рябчик, который в отличие от других тетеревиных издает протяжный свист. В беломорско-карельской записи А. Боре-ниуса от Симаны из рунопевческого рода Перттуненов из Ладвозера:
Airom püürit püinä vinku
Укрепы весел рябчиками свистели.
(SKVR I (1) 619)
Список литературы Образ рябчика как представителя боровой дичи в калевальских рунах
- Селиванов, Ф. М. Художественные сравнения русского песенного эпоса: систематический указатель/Ф. М.Селиванов. -Москва: Наука, 1990.
- Kuusi, Matti. Kalevalaisen muinaisepiikan viisi tyylikautta/Kuusi Matti. -KSVK -1957. -37. -s. 109-128.
- Suomen Kansan Vanhat Runot, I-XIV + XV. -Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 1908-1948 + 1997 (Далее -SKVR2; ссылка приводится в тексте в скобках с указанием номера варианта в фондовом своде).