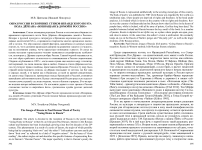Образ России в сборнике стихов ирландского поэта Пола Дёркана "Возвращаясь домой в Россию"
Автор: Цветкова Марина Владимировна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рецепции России в поэтическом сборнике современного ирландского поэта Пола Дёркана «Возвращаясь домой в Россию». Интерес к русской культуре и литературе в Ирландии неуклонно рос, начиная с первых десятилетий ХХ в., и проявился в творчестве многих ирландских писателей и поэтов. Это обусловлено серией факторов, важнейшим из которых можно считать то, что в сознании ирландских авторов на сравнении «своего» и «чужого», как на негативном снимке, четче проступало понимание «своего». В статье на основе методики «пристального чтения» выявляются специфические особенности, на которых у Дёркана строится образ России. Главной чертой оказывается то, что этот образ «работает» на антитезе со сложившимися о России стереотипами. Сборник опубликован в 1987 г., когда наша страна еще видится миру тоталитарной державой, где люди лишены прав и свобод. Однако в стихах Дёркана местом, где отсутствуют права и свободы, представлена Ирландия. Россия в ту пору была страной воинствующего атеизма, но Дёркан показывает ее местом, где бог жив в сердцах людей, в то время как в Ирландии, со всей ее армией священников, он давно умер. Параллели, проводимые между Ирландией и Россией, становятся важнейшим лейтмотивом книги. В ряде стихотворений Россия рисуется в идиллическом ключе страной, где люди открыты, чисты и близки к природе. В то же время видение автора амбивалентно. Он постоянно держит в поле зрения и Россию сталинских чисток и «партийных йети», трагические судьбы русских деятелей культуры.
Пол дёркан, образ россии, ирландская поэзия, возвращаясь домой в россию, рецепция, россия глазами запада, ирландско-русские литературные связи
Короткий адрес: https://sciup.org/149139244
IDR: 149139244 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_394
Текст научной статьи Образ России в сборнике стихов ирландского поэта Пола Дёркана "Возвращаясь домой в Россию"
Среди современных поэтов, и в Ирландской Республике, и в Северной Ирландии, Пол Дёркан - не единственный, кого манит к себе Россия. Русская тема отчетливо звучит и в творчестве таких поэтов, как нобелевский лауреат Шеймас Хини, Том Полин, Майкл О’Лафлин, Шеймас Дин, Пола Михан, Мейв Макгакьян, Мэри О’Мэлли, Фрэнк Ормсби. Причем этот список далеко не исчерпывающий, а если брать в расчет писателей и драматургов последних десятилетий прошлого века и начала нынешнего, то широта интереса ирландских деятелей культуры к России просто поражает своими масштабами. Так, драматург Брайан Фриал переводит Чехова («Три сестры») и Тургенева («Месяц в деревне») и пишет собственные адаптации чеховских рассказов и пьес: «Ялтинская игра» (The Yalta Game) - драматургическая адаптация «Дамы с собачкой», «Медведь» (Bear), основанную на шутке-комедии «Медведь» [Friel 2014]. Том Мёрфи выпускает свою адаптацию «Вишневого сада» и вариации на тему Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» - «Последние дни тирана поневоле» (The Last Days of the Reluctant Tyrant) [Murphy 2010], а Томас Килрой публикует авторскую обработку «Чайки» [Kilroy 1993].
В то же время в отечественном литературоведении вопрос рецепции России, ее культуры и литературы в творчестве ирландских авторов, не говоря уже об ирландских поэтах (поэзия в силу своей специфики всегда оказывается менее изучена, чем проза), по-прежнему остается чрезвычайно мало исследованным. Среди наиболее существенных работ, посвященных русской теме в ирландской поэзии, нельзя не упомянуть совсем недавно вышедшую книгу Г.М. Кружкова «Ветер с океана: Йейтс и Россия» [Кружков 2019]. Но в ней идет речь о первой волне такой рецепции, развернувшейся в начале XX в. Вторая волна, которая охватила Ирландию во второй половине прошлого столетия и не заканчивается по сей день, отчасти стала темой кандидатской диссертации А.В. Кононовой «Современная ирландская поэзия: диалог с русской литературой», тоже защищенной в 2019 г. [Кононова 2019]. Правда, несмотря на широту, заявленную названием, работа пристально прослеживает русскую тему в творчестве лишь трех авторов: Шеймаса Хини, Полы Михан и Мэри О’Мэлли.
Не более разработанной остается тема ирландско-русских связей на современном этапе и в англоязычном литературоведении. Наиболее весомый вклад в развитие исследований на этом поле сделала профессор Ш. Швертер в книге «Поэзия Северной Ирландии и русский поворот: Интертекстуальность в работах Шеймаса Хини, Тома Полина и Мейв Мак-гакьян» [Schwerter 2013], которая выросла из ее докторской диссертации, защищенной в Сорбонне. Однако в монографии интерес автора сосредоточен почти исключительно на Северной Ирландии.
Во всех упомянутых исследованиях русская тема в творчестве Пола Дёркана оказалась за рамками пристального изучения. Зато к ней обращается Ким Ченг Боэй [Kim 2006], посвятивший развернутую и глубокую статью рецепции России и ее культуры в ирландской поэзии, где есть раздел и о Дёркане.
Таким образом, очевидно, что перед нами колоссальный культурный и литературный пласт, который только в первом приближении в последние годы был пунктиром намечен исследователями. Данная статья - тоже один из первых шагов в глубь этой обширной и мало изученной пока территории.
Пол Дёркан - автор, чье творчество отмечено пятью престижными в Ирландии наградами, родился в 1944 г. в Дублине. В англоязычном мире он имеет славу поэта, «чьи сборники украшали собой списки бестселлеров, билеты на чьи публичные чтения стихов неизменно бывали полностью распроданы» [Durcan, Kelly 2003, 297], а также одного из немногих современных ирландских стихотворцев, кто снискал огромное число почитателей, как у себя на родине, так и за рубежом [Durcan, Kelly 2003, 297]. Однако именно в своей стране Дёркан имеет особый статус. Не случайно Дэвид Уитли окрестил поэта «национальным шаманом Ирландской Республики» [Wheatley 1996, 311], имея в виду гипнотический эффект, который он производит на публику во время чтения своих остроумных сатирических стихов, неизменно связанных с самыми наболевшими вопросами ирландской действительности. Достается в них и «затрепанным епископам», и «затасканным политикам», и местному обывателю [Hannan 1989, 104]. О значимости фигуры Дёркана для своей страны лучше всего свидетельствует тот факт, что президент Ирландской республики Мэри Робинсон, находившаяся у власти с 1990 по 1997 г, включила в свою инаугурационную речь строки его стихотворения «Задом к ветру» [Wheatley 1996,311].
Сборник под названием «Возвращаясь домой в Россию», четвертая часть которого, состоящая из девятнадцати стихотворений, «посвящена его [Дёркана] знанию России и любви к ней» [Hannan 1989, 101], поэт опубликовал в 1987 г. Причины обращения автора к русской теме множественны.
Западноевропейские исследователи наблюдают явный рост интереса к России и ее культуре вообще, как и к восточноевропейским авторам в 396
целом, в последние шестьдесят лет. Руфь Пэйдл, влиятельный в англоязычном мире литературный критик, полагает, что это связано с обилием появившихся в это время переводов на английский язык [Padel 2004, 25].
Крис Миллер отмечает, что западных авторов притягивает к русским поэтам и писателям то, что те жили и творили «в гуще истории» («in the thick of history») [Miller 2005, 18]. Его идею развивает и уточняет Джон Гудби, утверждая, что Ирландия во второй половине XX в. стала одним из тех мест, где политическая жизнь сделалась настолько «разведенной по полюсам, так чревата насилием» [Goodby 2013, vi], что слово писателя приобрело особую весомость и ценность. «Неожиданно Россия с ее самиздатом, Солженицыным и Сахаровым сделалась тем легальным увеличительным стеклом, через которое можно было смотреть на Ирландию. <.. .> На протяжении 20 лет этот “русский настрой”, как мы его можем называть, использовался для исследования перипетий и поворотов положения в Ирландии» [Goodby 2013, vi],
Ким Ченг Боэй, объясняя общий интерес ирландских поэтов к России, чрезвычайно уместно использует образ итальянского писателя Итало Кальвино, утверждая, что Россия выступает у них в качестве «зеркала, имеющего эффект фотографического негатива (“negative mirror”)» [Kim 2006, 353], которое позволяет через обращение к «чужому» лучше и точнее понять «свое».
Из Ирландии Россия видится далекой и обширной страной. Такой далекой и такой обширной, с такой сложной исторической судьбой и литературой, богатой на трагические сюжеты, что она кажется чужой, загадочной и одновременно в чем-то очень близкой и понятной, но более всего манящей. Подобное отношение естественным образом породило мифологизированное видение России, складывающееся под пером ирландских авторов.
Во многих своих чертах этот мифологизированный образ противоположен тому образу, который сформировался в Великобритании. Подобное отталкивание закономерно, учитывая сложное отношение ирландцев к британскому наследию, в том числе и культурному.
С.Б. Королева, одна из ведущих современных исследователей британского мифа о России в британской литературе, создатель ресурса «Национальные мифы о России» [Национальные мифы о России], выделяет шесть ключевых стереотипных образов России и русских, которые сформировались на разных этапах взаимодействия наших двух стран: «образ “запредельного” мощного, отчасти чудовищного пространства (XII XV вв.); образ псевдохристианской примитивно-туземной страны (XVI XVII вв.); образ сильного деспотичного, варварского государства-агрессора (XVIII XIX вв.); принципиально новый образ (начало XX в.) религиозного, душевно и духовно богатого народа; образ СССР как страны механистического труда и тотального контроля (с 1940-х по 1980-е гг.) и, наконец, образ современный, перестроечный и постперестроечный, обремененный ассоциациями со всеми другими слоями мифа и верой в Россию как в мир

непредсказуемых событий и неограниченных возможностей самопознания» [Миф о России в Британской культуре].
Специфика видения России Полом Дёрканом во многом обусловлена тем, что его, как и Шеймаса Хини, помимо притяжения к великой культуре, созданной русским народом, связывает с Россией биографический элемент: во-первых, у него была русская возлюбленная Светка, которая явилась героиней сразу нескольких стихотворений сборника «Возвращаясь домой в Россию»; во-вторых, прабабушка поэта Маргарет Уилсон волею судеб оказалась сначала в России, а затем в Эстонии, где и провела последние пятьдесят шесть лет своей жизни [Kim 2006, 366].
Другой немаловажный фактор, обусловивший своеобразие трактовки образа России Полом Дёрканом, - творческая манера ирландского поэта, программной чертой которой является тотальный эпатаж. Нередко даже сами заглавия его стихотворений звучат как «пощечина общественному вкусу»: «Священник, обвиненный в том, что не пользовался презервативом», «Кардинал умирает от сердечного приступа в дублинском борделе», «Занятие любовью рядом с Арас ан Ухторайн», где половой акт совершается рядом с резиденцией Президента Ирландской республики, «Лидер и автор передовиц, приступ диареи в партийном штабе в Ленинграде». Правда, эпатаж, характерный для поэзии Дёркана, не модернистского, а постмодернистского свойства с его установкой на ироническую десакрализацию традиционных ценностей.
Поэтическую манеру Пола Дёркана в целом отличает «шутовская непочтительность, живость языка», установка на «ниспровержение идолов» (Hannan 1989, 101). Его поэтика строится на парадоксе, оксюмороне и всепроникающей иронии, нередко переходящей в горький сарказм. Исключением не становится и трактовка в его творчестве образа нашей страны. Название сборника «Возвращаясь домой в Россию» - яркое тому доказательство. Дёркан, уроженец Ирландии, называет своим домом Россию.
Название сборника созвучно более раннему стихотворению Дёркана «Возвращаясь домой в Мэйо, 1949», опубликованному в 1978 г. Речь идет о местечке в графстве Мэйо, где проживала бабушка поэта по отцу и куда его в детстве иногда привозили в гости. Это были места, которых в 1940-е еще практически не коснулась цивилизация: здесь не было даже электричества, а на дороге можно было стоять часами и так и не дождаться ни одной машины. В этом стихотворении речь идет о стремлении домой в некую патриархальную идиллию, которая фактически домом лирического героя не является, но воспринимается им как дом. Напротив, возвращение в Дублин, где мальчик родился и жил, трактуется как отдаление от истинного дома. По мнению Кристины Хант Мэхони, здесь, как и в большинстве своих стихов, Дёркан озабочен поиском истинного, «аутентичного» [Mahony 2009, 274]. Похожие мотивы будут звучать и в «русских» стихотворениях сборника «Возвращаясь домой в Россию».
Один из слоев британского мифа о России (как было показано выше) рисует ее «сильным деспотичным, варварским государством-агрессором», 398
населенным примитивными туземцами [Миф о России в британской культуре]. Потому в давшем название сборнику стихотворении «Возвращаясь домой в Россию» эмиграционный офицер, ставящий штамп в паспорте лирического героя, смотрит на него «траурным взглядом» (mournfully) и бормочет «Удачи»:
‘Good luck’, he mutters as if to a hostage or convict,
Not knowing that he is speaking to an Irish dissident
Who knows that in Ireland scarcely anybody is free
To work or to have a home or to read or to write [Durcan 1987, 65]
[«Удачи», - бормочет он, как будто заложнику или осужденному,
Не зная, что он говорит с ирландским диссидентом
Который знает, что в Ирландии едва ли кто-то свободен
Работать, иметь жилье, читать и писать
(подстрочный перевод здесь и далее мой. -М.Ц.)У
Россия, в особенности Советский Союз, виделись Западному миру как «Империя зла», как тоталитарное государство, граждане которого лишены элементарных прав и свобод. Дёркан полемически заявляет, что это в Ирландии «едва ли кто-то свободен» (в книге речь идет об Ирландии до «оттепели» поздних 80-х), и потому он покидает эту страну и направляется в Россию, чтобы вдохнуть воздух свободы:
We Irish had our bellyful of blat and blarney, more than our share
Of the nomenklatura of Church and Party,
The nachalstvo of the legal and medical mafia.
Going down the airbridge, I slow my step,
Savouring the moment of liberation [Durcan 1987, 65].
[У нас, ирландцев, было полно своего блата
И пустопорожней болтовни, и своя доза
Церковной и партийной номенклатуры,
И начальство мафии законников и медработников.
Спускаясь по рукаву в самолет, я замедляю шаг,
Смакуя момент освобождения.]
Дёркан комментирует эту мысль в радиопередаче Рэта Кенни «Дневник Пола Дёркана», материалы которой позже были опубликованы отдельной книгой: «Расти в Ирландии в пятидесятые было чем-то похоже на жизнь за железным занавесом, с Католической элитой, вместо Кремлевской, просто другой группкой стариков, которые контролировали страну. Это была атмосфера жесточайшего контроля, ортодоксальности и конформизма любой ценой [Durcan, Kelly 2003, 297].
Используя разговорные словечки, обозначающие наиболее типичные «слабые места» советской системы, такие как nachalstvo, nomenklatura, blat для описания ситуации в Ирландии, и соединяя их с ирландскими разговорными словечками того же плана, поэт прибегает к шокирующему парадоксу, выворачивая привычное для его читателей видение вещей наизнанку: Советская Россия - символ тоталитаризма и тирании в сознании западного мира - оказывается страной свободы в сравнении с Ирландией.
Советский Союз был страной атеистической, в то время как Ирландия - страна с мощной католической традицией, и тем не менее лирический герой стихотворения утверждает, что не Ирландия, а Россия является прибежищем истинной веры:
As soon as I step aboard the Aeroflot airliner
I will have stepped from godlessness into faith [Durcan 1987, 65].
[Ступив на борт самолета Аэрофлота
Я перешагиваю из безбожия в веру]
Эта мысль повторяется и в ряде других стихотворений. Так, в стихотворении «Переделкино: на могиле Пастернака» лирический герой утверждает, что «В самом сердце атеизма Бог у себя дома» (“At the heart of atheism God is at home” [Durcan 1987, 86]); а в стихотворении «Тбилисское кабаре (Ортачальская красавица с веером)» настаивает, что «Хотя Бог родился в России, Это хранится в большом секрете» (“Although God was born in Russia / It is well-kept secret” [Durcan 1987, 87]).
В подобной трактовке слышны отголоски видения русских как религиозного, душевно и духовно богатого народа, вошедшего в англоязычную традицию в начале XX в.
Россия предстает у Дёркана не только страной, где, несмотря на атеистические времена, можно по-прежнему ощутить незримое присутствие Бога, который обитает не в храмах, а в душах людей, но и местом, где человек все еще близок к природе и живет в гармонии с природными ритмами. Лирический герой заглавного стихотворения с волнением предвкушает свое возвращение в этот мир бытовой неустроенности и простых человеческих радостей:
Into a winter of shoe-swapping;
Into a springtime of prams;
Into a summer of riverbanks and mountain huts;
Into the autumn of mushroom-hunting [Durcan 1987, 65].
[В зиму co сменной обувью;
В весну с детскими колясками;
В лето с речными берегами и маленькими домиками в горах;
В осень с походами за грибами.]
Образ Ирландии, в противопоставление этому, связан в том же стихотворении преимущественно с политикой и политиканами, с католическим духовенством, представленными в сатирическом ключе, потому у читателя не остается сомнений, отчего лирический герой так рад сказать своей стране «Прощай»:
Good bye to the penniless, homeless, trouserless politicians;
Goodbye to the pastoral liberals and the chic gombeens; <...>
Goodbye to the wide boys and their wider wives.
Goodbye to the squires and the squiresses
And their clerical leg-man in the bishops’ palaces
Whose function it is to keep the masses in their places [Durcan 1987, 66-67].
[Прощайте, нищие, бездомные, бесштанные политиканы;
Прощайте, местечковые нравоучители либералы и модные идиоты; <...>
Прощайте, прохиндеи и их еще более прохиндеистые жены;
Прощайте, сквайры и сквайрессы
И их клерикальные мальчики на побегушках и епископских резиденций
Чья функция - держать народ в узде.]
Вместе с тем представляется, что связанная с Россией тема возвращения домой продиктована не только эпатажем. В сборнике отчетливо звучит мотив возвращения через поездку в Россию к былой, не тронутой еще коррозией исторических процессов Ирландии [Kim 2006, 369]:
I have come home <...>
To live again with nature as before I lived
In Ireland before all the trees were cut down’ [Durcan 1987, 69].
[Я вернулся домой <...>
Чтобы вновь жить в единстве с природой, как я жил прежде.
В Ирландии, до того, как все ее деревья были вырублены.]
Кроме того, для лирического героя Россия оказывается домом, потому что здесь происходит его духовное воссоединение с родными. Именно тут он мысленно примиряется с отцом, отношения с которым у автора были очень непростыми («Гимн моему отцу»), тут он видит свою мать, чей силуэт, теряясь и вновь появляясь меж деревьями, пытается поспеть за его поездом, отправившимся с Таллинского вокзала, крича ему вслед: «Мой сын, мой сын, отчего ты покинул меня?» («Эстонское прощание»), на ее же неотступный взгляд он натыкается в московском метро (стихотворение «Переделкино: на могиле Пастернака») и т.д.
Весь сборник построен на постоянных параллелях России и Ирландии. Визит на могилу Пастернака заставляет лирического героя вернуться в мыслях к посещению могилы национального ирландского героя Арт

О’Лири, стихотворение «Женщина с ключами от дома Сталина» самим своим названием отсылает читателя к более раннему стихотворению Дёр-кана «Девушка с ключами от домика Пирса» [Durcan 1987, 88-89] (Патрик Пирс был ирландским поэтом и политическим деятелем, исповедовавшим республиканские взгляды. Расстрелян британцами в 1916 г. за участие в Пасхальном восстании).
В стихотворении «Гимн моему отцу» лирический герой называет себя «человеком, ищущим свою Россию» и сравнивает себя с витязем из русской сказки, оказавшимся на перепутье трех дорог, каждая из которых сулит ему лишь потери. Спасением из этой тупиковой ситуации становится для героя приезд в Россию, которая представлена в ряде стихотворений сборника как некое волшебное пространство, в котором лирический герой сказочным образом освобождается от мучивших его проблем.
Именно в России, точнее, на Красной площади, которая видится ему «сердцем бессердечного мира» (“the heart of the heartless world” [Durcan 1987, 96]), лирический герой Дёркана осознает, что Бог жив (стихотворение «Красная площадь - часы») и он не мужского, а женского пола:
God lives in Red Square.
It is the first thing that strikes you
On a February morning
Standing on the corner of October The Twenty-Fifth Street
And Red Square;
And that the world is round
And that, at the heart of the heartless world, God -
She is not dead [Durcan 1987, 96].
[Бог живет на Красной площади.
Это первая мысль, которая потрясает тебя
На углу улицы Двадцать пятого октября
И Красной площади;
И что Земля круглая;
И что в сердце бессердечного мира, Бог -
Она не умерла.]
В этом стихотворении Россия предстает некой патриархальной утопией, где еще можно встретить людей, прекрасных в своей простоте и открытости друг другу: блюстители порядка на Красной площади жуют мороженое, пожилая женщина с Украины, стоящая в очередь в Мавзолей, через барьер жмет руку мальчишке-милиционеру, другая старушка мирно беседует с водителем «Чайки», молодожены фотографируются под елями, продавщицы лотерейных билетиков зазывают покупателей в маленькие микрофоны.
Это зрелище вызывает у лирического героя острое ощущение идиллического, почти первобытного единства, которое надежно защищает от 402
вселенских бурь:
The People of Red Square
Have the nerve to look upon cosmos
As a Primitive Family... [Durcan 1987, 97]
[У Людей Красной площади
Достает смелости воспринимать вселенную,
Как одну большую первобытную семью...]
Лирического героя завораживает это место, поскольку вера здесь все еще жива, а гармония возможна, и потому еще есть шанс «вернуть нас самим себе» (“give ourselves back to ourselves” [Durcan 1987, 90] («Сказка 1937»). Это точка абсолютной свободы человеческого духа, над которой не властны самые могущественные политики:
Neither the Kremlin Mountaineer
Nor the White House Cowboy
Can finger either of us
Among the Beatitudes and the Cobblestones [Durcan 1987, 98].
[Ни Кремлевский Скалолаз
Ни Ковбой из Белого Дома
Не смогут достать нас
Среди этих Блаженных и этой Брусчатки.]
В то же время образ Советской России носит в поэзии Дёркана амбивалентный характер. Ее сказка в любой момент может стать пугающе страшной, как это происходит в стихотворении «Сказка о 1937», в котором автор обращается к теме 37 года. Даже в стихотворении «Красная площадь -Часы» с его экстатическим переживанием общечеловеческого единства возникает образ характерных для советских времен «ужасов», которые за этим экстатическим моментом могут последовать: «Звонок от партийного йети / Собачий столовский ужин» (“A phone call from a party yeti; /А dog’s dinner in the canteen” [Durcan 1987, 98].)
Такой подход позволяет автору избавить создаваемый им образ страны от однобокости. Сообщая ему дополнительные измерения, он выстраивает его по принципу парадокса. Рождающийся под пером Дёркана образ России оказывается, таким образом, и идеален, и устрашающ, и утопичен, и реалистичен в одно и то же время.
Обращает на себя внимание обилие мелких бытовых подробностей, которые помогают Полу Дёркану создать чрезвычайно точные зарисовки российской действительности советских времен и типичных для нее характеров.
Ярким примером может служить стихотворение «Зина в Мурманске»,
которое повествует о судьбе представительницы советской интеллигенции. Несколькими штрихами Дёркан рисует хорошо узнаваемый для всех живших в 70-80-е годы в СССР типаж: талантливая девочка, отличница, гордость папы с мамой - обычных советских людей, членов добровольной народной дружины и заядлых грибников, после школы вместо того, чтобы поступить, как от нее ожидали, в Московский литинститут или в Художественный институт в Ленинграде, завербовывается на работу в Мурманск, на Крайний Север. Этот поступок, который кажется ее окружению абсурдным, на самом деле имел в своей основе наивно романтический и одновременно весьма прагматический импульс («Зина <...> всегда была мечтательницей / Но от земли не отрывалась», “Zina <.. .> Had always been a dreamer / With her feet on the ground” [Durcan 1987, 84]): девушка убеждена, что в Мурманске она встретит мужчину своей мечты:
.. .a man of her dreams,
A specimen of manhood whose ancestors
Had been living the same sort of life
For thousands and thousands and thousands of-
A Mesolitic Man of the twentieth century... [Durcan 1987, 84]
[...мужчину своей мечты,
Такой породы мужчину, чьи предки
Жили одной и той же жизнью
Тысячи, тысячи и тысячи лет -
Мужчину эпохи Мезолита в двадцатом столетии...]
Это очень любопытное и меткое наблюдение. Действительно, в конце 50-х - начале 60-х (а судя по всему, Зина принадлежит именно к поколению, чья юность пришлась на эти годы) своеобразным секс-символом в Советском Союзе стал Эрнест Хэмингуэй, чей знаменитый портрет в свитере грубой вязки, распечатанный на первых электронно-вычислительных машинах, а потому состоящий из ноликов и единиц, украшал рабочие места представителей советской интеллигенции. Этот портрет олицетворял архетип мужчины одновременно брутального и духовно богатого, сочетающего в себе черты воина и философа: «утонченного дикаря» (“sophisticated primitive” [Durcan 1987, 86]), как определяет этот тип Дёркан в стихотворении «Тбилисское кабаре (Ортачальская красавица с веером)», посвященном памяти Пиросмани.
Естественно, Зина так и не нашла себе пару (потому что в Мурманске, как с печальной иронией замечает Дёркан, таких мужчин оказалось не больше, чем в Москве) и проживает теперь в полном одиночестве в своей маленькой квартирке в Мурманске.
Хотя автор посмеивается над Зиной и ее мечтами о том, как ее суженый днем охотится на акул в Белом море или белых медведей в тундре, а вечерам читает ей вслух романы Толстого, Распутина и Айтматова, в то время как она штопает его гигантские носки, очевидно, что он относится к своей героине с глубокой симпатией. Для него она «последняя женщина, оставшаяся в живых в этом мире», “the last woman left alive in the world” [Durcan 1987, 85].
Образу русской женщины отводится в сборнике особое место. Он многолик, но неизменно вызывает в памяти образ загадочной славянки из романа Вирджинии Вульф «Орландо», главный герой которого совершенно околдован русской княжной Сашей, потому что она во всем противоположна его блеклым, невыразительным и скучным соотечественницам. Саша очень естественна и в проявлении своих чувств, и в своем поведении, непредсказуема в своих реакциях и не заботится об общественном мнении. Она - интересная и остроумная собеседница, обладает невероятным сексуальным магнетизмом и легко вступает в интимные отношения. Этот образ вобрал в себя и соединил воедино берущие истоки из книг средневековых английских путешественников представления о раскрепощенности нравов русских женщин, и романтический миф о загадочности русской души и красоте славянок. Впрочем, подобная трактовка русской женщины встречалась не только у английских авторов (ср., например, мадам Шаша в «Волшебной горе» Т. Манна) и, по-видимому может считаться общим западноевропейским стереотипом.
Отголоски этого стереотипа можно заметить и в «полногрудой, остроумной, печальной» Гале - героине стихотворения «Женщина с ключами от дома Сталина», которая, показав лирическому герою дом, где Сталин появился на свет и поужинав с ним, самозабвенно занимается с ним любовью, а при прощании говорит полушутя-полусерьезно: «Ты мне немного нравишься, потому что ты чувствуешь амбивалентность жизни Мэри» (“I like you a little because you have mixed feelings” [Durcan 1987, 89]); и Светка, героиня сразу нескольких стихотворений сборника. История знакомства лирического героя с ней рассказывается в стихотворении «Красная стрела»:
We sat up half the night chinwagging, colloguing,
And when awkwardly I began to undress, and she said:
‘Ah yes, it is alright - would you like to?’ <...>
When I fell out of her bunk on to the floor
And the wagon-lady put her head in the door
To check what was the matter
And Svetka said in Russian; ‘These foreigners -
They cannot even keep from falling out of bed -
Always needing to be treated like babies [Durcan 1987, 70]’.
[Мы полночи сидели, болтая с глазу на глаз
И когда я начал неловко раздеваться, и она сказала:
«Да, кстати, я не против - ты хочешь?» <...>
Когда я упал с ее полки на пол
И проводница просунула голову в дверь
Проверить, что случилось,
И Светка по-русски сказала: «Эти иностранцы -
Даже не могут не упасть с постели
Все время с ними надо как с малыми детьми».]
Когда поезд прибывает в Москву, Светка сама предлагает лирическому герою встретиться и назначает ему свидание в магазине «Мелодия» на Калининском в отделе классической музыки под Рахманиновым, что свидетельствует о ее искушенности в музыке.
«Пристальное» прочтение стихотворений сборника Пола Дёркана «Возвращаясь домой в Россию» показывает, что образ России в сборнике выстроен полемически - на постоянном сравнении ее с Ирландией. Таким образом миф о «чужом» оказывается теснейшим образом сцеплен у Дёркана с мифом о «своем». Сопоставление и противопоставление «своего» и «чужого» становится центральным лейтмотивом четвертой части сборника, посвященной поездке в Россию. Однако сам факт, что предшествующие три части, связанные исключительно с Ирландией, Дёркан тоже включил в сборник под общим названием «Возвращаясь домой в Россию», причем часть, посвященную России, поставил в сильную позицию финала, свидетельствует о том, что поэт рассматривает их во взаимосвязи и хочет того же от своего читателя.
Кроме того, изображение Советской России нередко построено по принципу парадокса (атеистическая страна изображается оплотом истинной веры, тоталитарная держава - местом, где лирический герой переживает экстатическое ощущение подлинной свободы человеческого духа) и может рассматриваться как проявление эпатажа, отличающего творческую манеру Дёркана в целом. Во многих своих проявлениях образ России в сборнике звучит как спор с британскими стереотипами о России, что выглядит вполне закономерным, учитывая отношение ирландцев к культуре бывшей метрополии.
В целом ряде стихотворений образ России приобретает черты утопического идиллического пространства, становясь как бы другим измерением, в виртуальном пространстве которого снимаются многие конфликты, мучившие лирического героя на родине.
Одновременно образ России амбивалентен. В нем слиты воедино идиллическое и трагическое начало, разговор о которых часто ведется в рамках одного и того же стихотворения. Однако автор не довольствуется черно-белым изображением, рисуя предперестроечную Россию многомерной со всеми мельчайшими подробностями ее быта и с реалистически достоверно прорисованными характерами, суть которых ирландский поэт понял очень точно и глубоко.
Особое место отведено в посвященных России стихотворениях сборника русским женщинам, изображение которых в целом, если абстрагироваться от деталей, остается в рамках типажа, характерного для английской
(и шире - западноевропейской) литературы начала XX в., как манящих своей загадочностью, действующих под влиянием минутного порыва, привлекательных физически и вместе с тем обладающих сложной душевной организацией.
Список литературы Образ России в сборнике стихов ирландского поэта Пола Дёркана "Возвращаясь домой в Россию"
- Кононова А. В. Современная ирландская поэзия: диалог с русской литературой: дис. ... к. филол. н.: 10.01.03. М., 2019. 184 с.
- Кружков Г. Ветер с океана: Йейтс и Россия. М.: Прогресс-традиция, 2019. 496 с.
- Национальные мифы о России. URL: http://myth-of-russia.lunn.ru/ natsionalnyie-mifyi-o-rossii/ (дата обращения: 30.07.2020).
- Миф о России в британской культуре // Национальные мифы о России. URL: http://myth-of-russia.lunn.ru/mif-o-rossii-v-britanskoy-kulture-2/ (дата обращения: 30.07.2020).
- Durcan P. Poems. Going Home to Russia. Belfast; Wolfeboro, New Hampshire: The Blacksaff Press, 1987. 102 p.
- Durcan P., Kelly, Sh. Being a Poet Is Not a Viable Proposition // Books Ireland. 2003. № 263. P. 297-298.
- Friel B. Plays 3: Three Sisters; A Month in the Country; Uncle Vanya; The Yalta Game; The Bear; Afterplay; Performances; The Home Place; Hedda Gabler. London: Faber & Faber, 2014. 547 p.
- Goodby J. Foreward // Schwerter S. Northern Irish Poetry and the Russian Turn: Intertextuality in the Work of Seamus Heaney, Tom Paulin and Medbh McGuckian. London: Palgrave Macmillan, 2013. P. vi-ix.
- Hannan D.J. A Note on Paul Durcan's «The Wreck of the Deutschland» // The Canadian Journal of Irish Studies. 1989. Jul. Vol. 15. № 1. P. 101-105.
- Kilroy T. The Seagull: After Checkov. Oldcastle: Gallery Press, 1993. 87 p.
- Kim Ch.B. The Dublin-Moscow Line: Russia and the Poetics of Home in Contemporary Irish Poetry // Irish University Review. 2006. Autumn - Winter. Vol. 36. № 2. P. 353-373.
- Mahony Ch. Н. «Going Home to Mayo, Winter 1949», Paul Durcan // Irish University Review. 2009. Autumn - Winter. Vol. 39. № 2. P. 273-279.
- Miller C. The Mandelstam Syndrome and the «Old Heroic Bang» // PN Review. 2005. Vol. 31. № 4. P. 14-22.
- Murphy T. Plays: 6: The Cherry Orchard; She Stoops to Folly; The Drunkard; The Last Days of a Reluctant Tyrant (Contemporary Dramatists). London: Methuen Drama, 2010. 384 p.
- Padel R. 25 Ways of Looking at a Poem. London: Vintage Books, 2004. 288 p.
- Schwerter S. Northern Irish Poetry and the Russian Turn: Intertextuality in the Work of Seamus Heaney, Tom Paulin and Medbh McGuckian. London: Palgrave Macmillan, 2013. 261 p.
- Wheatley D. Homage and Judgment // Books Ireland. 1996. № 199. Nov. P. 311.