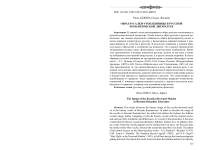Образ русалки-утопленницы в русской романтической литературе
Автор: Адзима Рина
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (56), 2021 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается образ русалки-утопленницы в русской романтической литературе. Чтобы описать образ русалки в русском романтизме, мы сначала определили особенности образа фольклорной русалки, а потом сравнили литературную русалку с фольклорным первоисточником и проанализировали их сходства и различия. В результате сравнения и анализа образа русалки в фольклоре и литературе мы выяснили, что в каждом произведении литературная русалка имеет фольклорные отличительные особенности. Кроме того, произведения, в которых появляется русалка, делятся на два типа: в одних не изображается внутренний мир русалки, а в других показан подробно. В статье обращается особое внимание на три произведения, в которых фигурирует мотив мести - А.С. Пушкин «Русалка» (1832), О.М. Сомов «Русалка. Малороссийское предание» (1829) и Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» (1831). В этих трех произведениях то, что героиня бросается в воду, играет важную роль. С помощью этого мотива, заимствованного из фольклора и переосмысленного литературной традицией романтизма, девушки переходят из земного мира (мира живых) в водный (мир мертвых) и перевоплощаются в русалок. Это символизирует их освобождение от «правила». Здесь «правило» обозначает иерархию человеческих отношений. С помощью перевоплощения в русалок у девушек получается освободиться от «правила», которому они подчинялись при жизни.
Русалка, русский романтизм, фольклор
Короткий адрес: https://sciup.org/149136552
IDR: 149136552 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00010
Текст научной статьи Образ русалки-утопленницы в русской романтической литературе
Русалка — один из восточнославянских мифологических персонажей, который, кажется, наиболее часто изображался в русской литературе. Начиная с первых десятилетий XIX в. и до сегодняшнего дня образ русалки активно используется в русской литературной традиции [см. Словарь-указатель. .. 2003, 117-124]. Можно сказать, что русалка имеет в ней привилегированное положение. В данной статье мы сконцентрируемся на образе русалки в эпоху романтизма, причем именно на русском материале .
В этот период (с 1810-х по 1830-е гг.) писатели и поэты часто изображали русалку в своих произведениях. Например, А.С. Пушкин описал ее в стихотворении «Русалка» (1819) [считается, что поэт переосмыслил так балладу «Рыбак» (1818) В .А. Жуковского, который в свою очередь переложил одноименную балладу (1778) И.В. Гете. См.: Борисова 2005, 30-31], поэме «Руслан и Людмила» (1820), «Как счастлив я, когда могу покинуть...» (1826) и незавершенной драматической прозе «Русалка» (1829 1832). [Помимо этого, Пушкин использовал в своем творчестве и другие похожие образы и мотивы - например, изображал водную царицу в тексте «Яныш королевич» (1835) из цикла «Песни западных славян»]. М.Ю. Лермонтов тоже использовал этот образ в стихотворениях «Русалка» (1832) [уже за рамками обозначенного периода тему, связанную с русалкой, можно увидеть в его повести «Тамань» (1840) и стихотворении «Морская царевна» (1841)]. Русалки появляются также в повестях «Майская ночь, или Утопленница» (1831), «Страшная месть» (1832), «Вий» (1835) Н.В. Гоголя, в произведениях «Русалка. Малороссийское предание» (1829), «Куналов вечер» (1831) О.М. Сомова. Если рассматривать и переводы иностранной литературы, можно добавить в этот ряд немецкую повесть «Ундина» Фридриха де ла Мотт Фуке в переводе В.А. Жуковского, но в данной работе мы анализируем только образ русалки.
Прежде чем приступить к анализу этого образа в литературе, рассмотрим его основные фольклорные черты. Русалка появляется в фольклоре в обрядных песнях, былинках и бывальщинах [Померанцева 1975, 79]. В былинках и бывалыцинах рассказывается о демонических существах: о духах природы (о лешем, водяном, русалках, горных духах и т.д.), о домашних духах (о домовом, овиннике, баннике и т.д.) и о черте [Померанцева 1975, 14]. Э.В. Померанцева описывает былинки так: «своеобразие формы быличек определяется тем, что это рассказы о столкновении человека с потусторонним миром, рассказы не только о чем-то необыкновенном, но необъяснимом и страшном» [Померанцева 1975, 21-22]. Она также отмечает, что «быличка всегда носит характер свидетельского показания: рас-

сказчик либо сообщает о пережитом им самым случае, либо ссылается на авторитет того лица, от которого он об этом случае слышал» [Померанцева 1975, 22].
А на каком основании те, кто встретил это существо, считают его именно русалкой? Если обратить внимание на то, что «быличка всегда носит характер свидетельского показания», можно догадаться о том, что для идентификации требуются некоторые отличительные особенности или условия.
По народным поверьям, русалками становились заложные покойники: девушки, умершие до брака, некрещеные дети, самоубийцы, утопленницы. Русалка выглядит как женщина с длинными распущенными волосами. Представления об их внешности противоречивы. Некоторые русалки описываются как молодые красивые девушки, обнаженные или в белых одеждах, а другие - как вызывающие страх безобразные косматые бабы с отвисшей грудью. Считается, что русалки обитают в реках, прудах. Говорят также, что на Русальной неделе (или на Троицких праздниках, на Зеленых святках, в Духов день, на Ивана Куналу) они выходят из воды, появляются в лесу, поле, у воды. На суше русалки поют, водят хороводы, бегают во ржи. Они любят раскачиваться на растениях или в воде на волнах, а также расчесывать у воды свои волосы. Когда русалка встречает человека, она может защекотать его до смерти или утопить [Зеленин 1995, 39-40, 166-171, 190-207; Славянские древности 2009, 495-500; Померанцева 1975, 70-75].
В данной работе мы называем эти элементы - происхождение, внешний вид, место обитания, сезон появления, место появления, поведение, вредоносные действия - фольклорными отличительными особенностями.
Итак, как же писатели воспринимали и переносили в литературу образ русалки, который до этого существовал в сфере устной традиции? А также чем отличается литературная русалка от фольклорной?
Отметим, что в каждом произведении литературная русалка сохраняет некоторые фольклорные отличительные особенности. Обычно в литературе описываются ее внешний вид, место появления, поведение или вредительство. Поэтому даже если не используется само название «русалка», как, например, в произведениях «Как счастлив я, когда могу покинуть...» Пушкина и «Майская ночь, или Утопленница» Гоголя, можно сказать, что изображенное существо - именно русалка. Также следует отметить, что произведения, в которых появляется такой персонаж, делятся на два типа: в одних не изображается внутренний мир русалки, а в других он представлен.
Внутренний мир русалки не показан в пушкинских произведениях «Русалка» (1819), «Руслан и Людмила» (1820), «Как счастлив я, когда могу покинуть...» (1826), в лермонтовской повести «Тамань» (1840) и его же стихотворении «Морская царевна» (1841), в гоголевских повестях «Страшная месть» (1832) и «Вий» (1835), в повести Сомова «Купалов вечер» (1831). Пушкинские стихи «Русалка» повестуют о том, как русалка своей соблазительной красотой и поведением манит пожилого монаха к гибели. Монах чувствует страх, но одновременно восхищается русалкой, в конце концов он поддается искушению и тонет. В поэме «Руслан и Людмила» русалка появляется в посвящении, песнях второй и четвертой. Здесь русалка ничего не говорит. Повествователь изображает ее как опасного персонажа, который манит витязя. В стихотворении «Как счастлив я, когда могу покинуть...» с точки зрения дворянина изображается, как он идет на встречу с русалкой, а потом, чувствуя радость от русалочьего прохладного лобзанья и любовь, умирает. В повести «Тамань» из романа Лермонтова «Герой нашего времени» Печорин сравнивает девушку с русалкой либо ундиной и не отличает одну от другой. Как отмечает В.Ш. Кривонос, «своим видом (прежде всего распущенными косами) девушка и в самом деле напоминает русалку. Подобно ундине, она действительно завлекает героя пением и обворожительной внешностью. <...> В свою очередь девушка, разыграв перед Печориным представление, будто влюблена в него (мнимая влюбленность - такова используемая ею в игре с героем сюжетная маска), назначает ему встречу ночью на берегу, чтобы попытаться, как и подобает русалке, склонной к вредоносным действиям, утопить его» [Кривонос 2019, 42]. Можно сказать, что, помимо песен, кокетливость девушки, хитрость, заманивание героя к гибели также совпадают с атрибутами водной девы - русалки или ундины. Эта повесть написана в виде записок, следовательно все события и девушка (русалка-ундина) показываются только с точки зрения героя-рассказчика. При этом морская царевна в одноименном стихотворении описывается с точки зрения повествователя. Внешне морская царевна совсем не похожа на русалку: у нее коса, зеленый хвост, покрытый змеиной чешуею. Ее общность с русалкой ограничивается лишь появлением из воды и женским полом. Героиня, морское чудо, манит царевича, но он не гибнет, а страшится ее. В повести «Страшная месть» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя рассказчик изображает русалку как страшное, опасное для человека существо. В повести «Вий» из «Миргорода» Хома видит русалку, когда летит с ведьмой на спине. Здесь русалке дан подчеркнуто женственный эротический образ. Приводя пример Хомы Брута, В.Ш. Кривонос полагает, что женские черты подобных «красавиц» недаром внушают мужским персонажам чувство опасности и действуют на них разрушительно.Исследователь продолжает: «магически вызывая темное эротическое влечение, гоголевские женщины, если сами не являются нечистой силой, то обнаруживают явную или подразумеваемую связь с нечистой силой» [Кривонос 2006, 201-202]. В.Ш. Кривонос говорит именно о ведьмах, но можно включить в этот ряд также гоголевских русалок в повестях «Страшная месть» и «Вий». В рассказе «Купалов вечер» Сомова нам показаны мысли и эмоции только Кон-числава, но не русалки Услады. До того, как Услада показала свою сущность, она была белокожей очаровательной красавицей. После того, как герой заметил, что она является русалкой, героиня изображается как злая и страшная, к тому же автор приписывает ей внешние черты, которые на-
поминают характерные для этого образа.
Между образами русалки в вышеприведенных произведениях есть некоторая общность. Русалка появляется в обличии красивой, очаровательной девушки. Ее образ - эротический, опасный, вредоносный или страшный. Своей красотой она манит человека (мужчину) к гибели. По Е.Е. Левкиевской, «в народной традиции чрезвычайно слабо проявляется любовная сюжетная линия, которую так любят эксплуатировать писатели и поэты-романтики: русалки почти не занимаются соблазнением мужчин. Редкие тексты, в которых русалка все-таки соблазняет земного мужчину, как подозревает целый ряд фольклористов, спровоцированы именно книжностью, знанием литературных текстов, а не собственно народной традицией» [Левкиевская]. Можно сказать, что соблазнение мужчины русалкой является одной из романтических литературных черт. К тому же, происхождение русалки в произведениях такого типа покрыто тайной. Встреча с русалкой, ее внешний вид и поведение описываются исключительно с человеческой (обычно мужской) точки зрения.
Но есть произведения, в которых, наоборот, изображается эмоциональная сторона и личность русалки: таковы драматическая проза Пушкина «Русалка» (1832), стихотворение Лермонтова «Русалка» (1832), повесть Сомова «Русалка. Малороссийское предание» (1829) и повесть Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» (1831) из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». В лермонтовском стихотворении «Русалка» повествователь рассказывает, что он смотрел, как русалка плавает по реке под лунными лучами, и слышал, как она поет песню о любви. Если мы считаем это стихотворение рассказом с точки зрения свидетеля, можно сказать, что оно носит характер былички и при этом читатель играет роль слушателя. За исключением «Русалки» Лермонтова, в остальных трех произведениях -драматической прозе Пушкина «Русалка», повести Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» и Сомова «Русалка. Малороссийское предание» - намного подробнее и глубже описывается внутренний мир русалки, ее эмоции и мысли.
Следует отметить, что между этими тремя произведениями есть связь, общий сюжет: девушка, ставшая русалкой, мстит тому, кто мучил ее, когда она была жива. Хотя пушкинская драма «Русалка» не закончена, понятно, что в ней Дочь Мельника попытается отомстить Князю, который обольстил ее. [Установлены варианты продолжения и окончания этой драмы Д.П. Зуевым, А.Ф. Вельтманом, А. Крутогоровым (Антоном Штукенбер-гом), А.Ф. Богдановым, В. Набоковым, В. Рецептером, см.: Пушкин плюс... 2008, 70-220, 357-382, 415]. В повести Сомова «Русалка. Малороссийское предание» Горпинка, дочь лесничего, мстит Казимиру, молодому польскому пану. В гоголевской повести «Майская ночь, или Утопленница» панночка, дочка сотника, карает мачеху-ведьму. Заметно, что между Дочерью Мельника и Князем существуют социально-классовые различия; между Горпинкой и Казимиром тоже возникает социальный конфликт, а между панночкой и мачехой-ведьмой есть иерархическое неравенство.
Помимо этого, во всех трех произведениях изображается жизнь девушек до того, как они стали русалками, а также описываются причины их самоубийства. Кроме того, показывается и то, как они совершают свою месть. Так мы узнаем, что личности героинь сохраняются после перевоплощений в русалок.
Писатели-романтики концентрируют свое внимание на одном, главном образе девушки, и с ее точки зрения описывается то, что происходило с ней при жизни и после смерти. Отметим также, что лишь перевоплотившись в русалок, подобные героини начинают мстить тем, кто мучил их при жизни.
Почему же после смерти, став русалкой, девушка впервые получает возможность отомстить? В книжной традиции, как и в народных поверьях, девушка бросается в воду и превращается в русалку. Этот процесс, как мы считаем, в литературном творчестве играет роль катализатора мести. Чтобы провести анализ этого процесса, обратим внимание на функцию мотива самоубийства или прыжка в воду.
Сначала рассмотрим образ пушкинской русалки в одноименной драматической прозе Пушкина, фокусируясь на Дочери Мельника, ставшей русалкой.
Как уже было отмечено, между Дочерью Мельника и Князем есть бинарное противопоставление в социальной иерархии, но после самоубийства Дочь Мельника становится Царицей русалок и ее классовая принадлежность кардинально меняется. Здесь, особенно концентрируясь на Дочери Мельника, русалке и водном мире, последуем анализу Карлы Соливетти, которая исследовала разные бинарные противопоставления и их переворачивание в драме «Русалка».
К. Соливетти обращает внимание на код языка: язык природы (язык чувств, прямой) и язык культуры (риторический, непрямой, выражающий социальную иерархию) [Соливетти 2005, 22]. Как пишет исследовательница, «поначалу Дочь Мельника говорит только на языке чувств и часто обращается к лексике, относящейся к миру природы. <...> Князь же, напротив, почти всегда говорит на языке культуры» [Соливетти 2005, 22].
К. Соливетти отмечает «переворот» в водном мире: «в значимой инверсии, реализующийся в мире русалок - мире “наоборот”, где смерть становится жизнью, бедная Дочь Мельника превращается в Царицу, отдавая предпочтение языку мира Князя» [Соливетти 2005, 30]. Согласно наблюдениям ученого, «в речах Дочери Мельника сначала преобладает язык природы, все больше сметающийся к языку культуры, параллельно с осознанием ею разницы ее социального кода и кода Князя. Ее самоубийство завершает “переворот”: она превращается в Царицу русалок» [Соливетти 2005, 36-37]. Как указала К. Соливетти, мир русалок, другими словами, водный мир является миром «наоборот», однако она не затрагивала вопрос о том, почему самоубийство Дочери Мельника завершает «переворот». Это наблюдение важно для анализа функций самоубийства и прыжка в воду, потому что здесь четко видно русское фольклорное мировоззрение.
Чтобы выявить ценность приведенного замечания, воспользуемся статьей Н.И. Толстого в качестве примера.
Н.И. Толстой объясняет, что «переход покойника в другой мир обозначается действием переворачивания самого покойника или предметов. При этом под переворачиванием имеются в виду разного рода пространственные обращения: как по вертикали (сверху вниз, с ног на голову, вверх дном и т.п.), так и по горизонтали (справа налево, с запада на восток и т.п.) или по линии внутри-снаружи (выворачивание наизнанку)» [Толстой 1995, 213]. Ученый подтверждает: «вообще переворачивание предмета (тела) есть действие, включающееся в более широкую семантическую и семиотическую сферу действий преобразования, превращения, метаморфозы, принятия иного обличья, перехода из одного состояния в другое, наконец, в сферу общения “этого света” с “тем светом”» [Толстой 1995, 221].
По утверждению Толстого, переворачивание затрагивает два симметричных элемента и дает возможность перехода в иной мир. Если сопоставить это с фольклорным мышлением, можно считать «бросание в воду» в драме «Русалка» одним из видов переворачивания, которое помогает проникнуть в другую реальность. С помощью «бросания в воду» Дочь Мельника может «перейти» из живого мира в мертвый и «превратиться» из бедной девушки в Царицу русалок.
В драме «Русалка» мы ощущаем фольклорный фон благодаря внешнему виду, поведению, месту обитания русалок, но вместе с тем с неподдельной яркостью изображаются эмоции, внутренний мир русалки как вполне конкретной женщины, противодействие социальному либо классовому неравенству.
Также детально представлена сама ситуация самоубийства, чего нет в фольклоре. Дочь Мельника в гневе на Князя, изменившего ей, кончает с собой. Став русалкой, она семь лет ненавидит Князя. Ее эмоции меняются от горя к гневу, и наконец Царица русалок страстно устремляется к мести. Хотя Князь считает ее «несчастной» или «бедной», она сама никогда не называет себя так. Здесь мы замечаем проявление самосознания Дочери Мельника, ставшей Царицей русалок.
Посмотрим, можно ли обнаружить фольклорные аллюзии, связанные с переворачиванием, в повестях Сомова и Гоголя.
В повести Сомова «Русалка. Малороссийское предание» не рассказывается, как погибла Горпинка, и не описывается сам момент мести, но можно догадаться, что она бросилась в воду, перевоплотилась в русалку и защекотала Казимира до смерти, те. отомстила ему.
В примечаниях говорится: «простой народ в Малороссии думает, что русалки суть утопленницы и удавленницы, произвольно лишившие себя жизни. Они говорят, что у русалок зеленые волосы, другие просто наряжают их в больше зеленые венки. Сочинитель принял последнее из сих поверий, а для отличия русалок, одних из них покрыл венками из осоки, других - венками из древесных ветвей. Разумеется, что первые из них утопленницы, а вторые - удавленницы» [Сомов 1991, 124].
Горпинка носит зеленый венок из осоки - это дает нам понять, что она утопленница. Здесь тоже можно считать «бросание в воду» одним из видов переворачивания, которое позволяет переходить в иной мир и превращаться в русалку В повести есть намеки на то, что Горпинка бросилась в Днепр.
Ставшая русалкой героиня понимает водный мир и земной мир совсем наоборот:
«<...> Брось напрасный страх и опустись к нам на дно Днепра. Там весело! там легко! там все молодеют и становятся так же резвы, как струйки водяные, так же игривы и беззаботны, как молодые рыбки. У нас и солнышко сияет ярче, у нас и утренний ветерок дышит привольнее. Что в вашей земле? Здесь во всем нужды: то голод, то холод; там мы не знаем никаких нужд, всем довольны, плещемся водой, играем радугой, ищем по дну драгоценностей и ими утешаемся. Зимою нам тепло под льдом как под шубой; а летом, в ясные ночи, мы выходим греться на лучах месяца, резвимся, веселимся и для забавы часто шутим над живыми. Что в том беды, если мы подчас щекочем их или уносим на дно реки? разве им от того хуже? Они становятся так же легки и свободны, как и мы сами... <...>» [Сомов 1991, 121].
Как хорошо выражено в речах Горпинки, земной и водный мир находятся в отношениях бинарного противопоставления. Земной мир с ее точки зрения предстает отрицательным, а водный мир положительным или идеальным. Это значит, что водный мир по сравнению с земным миром представляет собой мир «наоборот». Помимо того, героиня также не считает себя «бедной» или «несчастной», как полагают другие персонажи.
В повести Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» панночка бросилась в пруд и стала утопленницей, причем главой русалок. «Майская ночь, или Утопленница» отличается от других двух произведений, в которых тоже есть мотив мести, тем, что в ней социальный статус панночки-русалки не переворачивается, как в случае с Дочерью Мельника - Царицей русалок, а водный и земной мир не находятся в отношениях симметрии, как в повести «Русалка. Малороссийское предание». Однако при жизни панночка во всем слушается отца и не делает мачехе ничего плохого — только после перевоплощения в русалку она решительно мстит мачехе. Левко и повествователь считают панночку-русалку «несчастной» или «бедной», и она тоже в своих словах, обращенных к Левко, выражает свое несчастье и страдание. Из ее эмоциональной речи мы узнаем, что панночка-русалка страстно стремится отомстить мачехе-ведьме.
При жизни у панночки был конфликт с мачехой в семейной вертикальной иерархии. Панночке нельзя было сопротивляться мачехе, занимающей более влиятельную позицию в семье, но с помощью прыжка в воду панночка, став главой русалок, «перешла» из состояния, в котором нельзя сопротивляться, в противоположное.
Следовательно, женщины в вышеупомянутых литературных сюжетах
мести сами выбрали самоубийство путем «бросания в воду» и перешли из земного мира (мира живых) в водный (мир мертвых), перевоплотившись в русалок. Можно также отметить, что самоубийство является символическим поведением, которое обозначает противодействие «правилу» этого мира. Здесь «правило» обозначает иерархию человеческих отношений. Когда девушки жили на земле, они подчинялись «правилу», а после «перевоплощения» в русалок им больше не надо подчиняться и можно мстить. С помощью этого получается освободиться от «правила», которому они подчинялись при жизни.
Как пишет Ю.В. Манн, «основа романтизма - идея личности. Романтическая личность - это идея единственного важного, ценного и реального, находимиго романтиками в интроспекции, в индивидуальном самоощу-шении, в переживании своей души, как целого мира и всего мира» [Манн 2001, 342-343]. Так, в драме «Русалка», повестях «Русалка. Малороссийское предание» и «Майская ночь или Утопленница» авторы создали образ русалки, обладающей личностью. Кроме того, русские романтики придавали большое значение эмоциям, мыслям героини. В отличие от произведений, в которых не изображается внутренний мир русалки, там, где имеется сюжет мести, взгляд на русалку переходит от мужского к женскому - к точке зрения самой русалки. В таких произведениях показываются эмоции и мысли каждой героини - как романтические черты. В рассмотренных трех произведениях особенно заметны индивидуальность и личность каждой русалки, которые к тому же освобождаются от «правила». Также следует отметить, что в произведениях, где авторы особенно подробно изображали внутренний мир русалки и эмоциональную сторону, они представляли героиню не только как фольклорную русалку, но и как женщину, которой была дана новая свободная жизнь.
Список литературы Образ русалки-утопленницы в русской романтической литературе
- Борисова Н.А. Лирическая драма А.С. Пушкина о русалке (источники, творческая эволюция, поэтика): дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Великий Новгород, 2005.
- Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. М.: Белый город, 2014.
- Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: умершие неестественною смертью и русалки. М.: Индрик, 1995.
- Кривонос В.Ш. Повести Гоголя: пространство смысла. Самара: Самарский государственный педагогический университет, 2006.
- Кривонос В.Ш. «Тамань» Лермонтова: пространство, персонажи, сюжет // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2019. Т. 19. Вып. 1. С. 40-44. DOI: 10.18500/1817-7115-2019-19-1-40-44
- Лермонтов М.Ю. Полное собрание стихотворений: в 2 т. Т. 1. Стихотворения и драмы. Л.: Советский писатель, Ленинградское отделение, 1989. (Библиотека поэта. Большая серия).
- Левкиевская Е. Какими были русские русалки // Arzamas. URL: https:// arzamas.academy/materials/129 (дата обращения 09. 09. 2020).
- Новый филологический вестник. 2021. №1(56). --
- Манн Ю.В. Русская литература XIX века: эпоха романтизма. М.: Аспект-Пресс, 2001.
- Померанцева Э.В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М.: Наука, 1975.
- Померанцева Э.В. О русском фольклоре. М.: Наука, 1977.
- Пушкин А.С. Песни западных славян. СПб.: Изд. В.В. Комарова, 1899.
- Пушкин А.С. Драматические произведения. Проза. М.: Художественная литература, 1981.
- Пушкин А.С. Сказки А.С. Пушкина. М.: Олма Медиа Групп, 2015.
- Пушкин А.С. Час невинного досуга. СПб.: Азбука-Классика, 2015.
- Пушкин плюс...: незаконченные произведения А.С. Пушкина в продолжениях творческих читателей XIX-XX вв. / сост., публ., коммент., послесл., библи-огр. Е.В. Абрамовских. М.: РГГУ 2008.
- Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. Т. 4. М.: Международные отношения, 2009.
- Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы / отв. ред. Е.К. Ромодановская. Новосибирск: Институт филологии СО РАН, 2003.
- Соливетти К. Природа, культура и судьба в «Русалке» Пушкина // Автор и его зеркала. СПб.: Алетейя, 2005. С. 13-62.
- Сомов О.М. Купалов вечер: избранные произведения. Киев: Дшпро, 1991.
- Толстой Н.И. Переворачивание предметов в славянском погребальном обряде // Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 1995. C. 213-222.