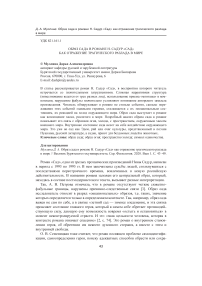Образ сада в романе Н. Садур «Сад» как отражение трагического разлада в мире
Автор: Муллина Дарья Александровна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается роман Н. Садур «Сад», в восприятии которого читатель встречается со значительными затруднениями. Сложная нарративная структура (повествование ведется от трех разных лиц), использование приема «монтажа» в композиции, нарушение фабулы значительно усложняют понимание авторского замысла произведения. Читатель обнаруживает в романе не столько события, сколько переживания этих событий главными героями, сталкивается с их эмоциональным состоянием, их реакцией на холод окружающего мира. Образ сада выступает в романе как воплощение хаоса, разлитого в мире. Подробный анализ образа сада в романе показывает его связь с образами огня, холода, с пространством, окруженным хаосом внешнего мира. Внутреннее состояние сада несет на себе воздействие окружающего мира. Это уже не сад как Эдем, рай или очаг культуры, представленный в поэзии Пушкина, русской литературе, а садик, приют для бездомных людей и животных
Образ сада, образ огня, пространство холода, символ одиночества
Короткий адрес: https://sciup.org/148316606
IDR: 148316606 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Образ сада в романе Н. Садур «Сад» как отражение трагического разлада в мире
Муллина Д. А. Образ сада в романе Н. Садур «Сад» как отражение трагического разлада в мире // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 1. С. 43–49.
Роман «Сад», одно из зрелых прозаических произведений Нины Садур, написан в период с 1993 по 1995 гг. В нем запечатлены судьбы людей, столкнувшихся с последствиями перестроечного времени, вовлеченных в новую российскую действительность. В названии романа заложен его центральный образ, который, находясь в составе постмодернистского текста, вызывает разные интерпретации.
Так, А. В. Петрова отмечала, что в романе отсутствуют четкие сюжетнофабульные границы, нарушены причинно-следственные связи [3]. Образ сада исследователь относит в разряд «окказиональных» образов, т.е. таких, значение которых определяется только в определенном контексте. Так, например, образ сада важен не сам по себе, а в связке «летний сад — зимнее оледенение, и эта связка проясняет состояние главного героя, который в самом себе обретает противодействующую силу, дающую ему возможность вовремя «остыть и остановиться» в момент неконтролируемой страсти. И это «знак цельности человека, которая в контексте романа означает спасение» [2, с. 74]. Это роман о внутреннем становлении героя, об обретении им некоего духовного стержня, а вместе с этим и внутренней свободы.
О. В. Семеницкая тоже считает, что роман посвящен проблеме самоидентификации, самоопределения героя, поиску адекватных способов обрести или сохра- нить свое «я» [5, с. 16]. В романном мире герои обретают себя через их способность ««перетворить» мир», реализуемую в словотворчестве, создании нового языка. Выражается это в повествовательной манере произведения. Герои в попытке найти, осмыслить свое «я» сами говорят о себе и о мире: часть «Ветер окраин» рассказана от лица Анны, часть «Заикуша» – от лица Алеши. Созданная в романе картина мира дана через призму сознания главных героев, что позволяет О. В. Се-меницкой отметить лиризованность нарративной структуры произведения. Герои живут воспоминаниями, «среди образов памяти, прошлого» [5, с. 17], а события настоящего не отмечаются ими, не выделяются из потока воспоминаний. «Прошлое и настоящее в романе переживаются в их парадоксальной одновременности для героев, временная последовательность (от прошлого к настоящему и будущему) сжимается в единый временной континуум» [5, с. 17].
Г. А. Симон предлагает рассмотреть роман «Сад» с точки зрения реализации в нем оппозиции «культура/инстинкт». По ее мнению, в романе отразились важные для Садур размышления о культуре и месте в ней человека. Образ сада исследователь считает перифразом культуры (со-знания) [6, с. 89]. Понятие «культуры» понимается исследовательницей прежде всего как то, что создано человеком, создано по определенному замыслу, в основе которого лежит гармония, порядок. Образ сада, согласно этому, воплощает «рукотворное пространство», возделанное человеком или Творцом [6, с. 86].
В романе образ сада противопоставлен образу леса как отражению стихийной природы (бессознательному). Однако в романе, как подчеркивает Г. А. Симон, создан образ «мертвого сада» (это городской парк в части «Слепые песни») и «взорванного сада». В системе романных символов образ запущенного, «мертвого сада» отражает крушение культуры, потерю человеком ценностных ориентиров, возвращение к хаосу. Автор, по мнению исследователя, создает атмосферу всеобщего хаоса. Хаос как мироощущение людей выходит на первый план в романе, что отражается на его повествовательной структуре — введение трех ракурсов повествования, проявляется в нарушении хронологических и логических связей, смешении образов культуры, частой смене хронотопов [6, с. 91].
Автором романа зафиксированы «тревожные тенденции разрушения стройного космоса культуры». Поддавшись влиянию стихийных, бессознательных сил, человек оказывается разрушителем того, что возделано им самим. Подводя итог своим наблюдениям, Г. А. Симон называет «Сад» «романом-предупреждением»: «…впуская зло в душу, человек обрекает на гибель не только себя и своих близких, но и весь мир, витальность которого с каждым возрождением идет на убыль» [6, с. 103].
Образ сада в романе является результатом осмысления действительности, обозначенной во времени — это начало 90-х годов XX в., поскольку в романе на это время указывает упоминание о событии 1993 г. – расстрел Белого дома. Автор не только размышляет о состоянии людей этого времени и страны в целом, но и выражает свое отношение к этой действительности, а также по-своему отвечает на поставленный вопрос: как человеку не потерять самого себя в круговороте событий.
Известно, что образ сада — традиционный для русской и мировой литературы. Этот образ метафорический, его функция воплощать рай на земле, Эдем.
В книге Д. С. Лихачева «Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей. Сад как текст» находим: «Сад — это попытка создания идеального мира взаимоотношений человека с природой. Поэтому сад представляется как в христианском мире, так и в мусульманском раем на земле, Эдемом» [1, с. 11].
Впервые сад как художественный образ в литературе был осмыслен А. С. Пуш- киным. Парк Екатерининского дворца, на территории которого располагался лицей, и сам Лицей были творчески осмыслены поэтом и слились в единый образ «садов Лицея». Как пишет Д. С. Лихачев, это метонимический образ, означающий мир свободы, свободы природы, беззаботности, дружбы, любви. Воплощенный в поэтическом образе «садов Лицея», сад Пушкина, по мысли Д. С. Лихачева, наполнен семантикой свободы духа, свободной природы, беззаботности, дружбы, любви. Вместе с тем это «мир уединенного чтения, уединенных размышлений» [1, с. 232, 237].
Русские писатели, создавая образ сада, наделяли его разной семантической нагрузкой. Например, образ заросшего и старого сада, живописного и свежего среди общей запущенности и нищеты, дает надежду на духовное возрождение гоголевского Плюшкина из «Мертвых душ». Образом-символом стал образ вишневого сада в пьесе А. П. Чехова. Это и образ России уходящей эпохи, и образ целого поколения, которое не может принять новые веяния времени, и образ культуры определенной поры. В поэме «Соловьиный сад» А. А. Блок образ сада стал метафорой особого мироощущения, с которым лирический герой поэмы расстается, переходя в новый этап. По мысли Д. С. Лихачева, сад является выражением определенных философских, эстетических представлений о мироустройстве, отношений человека к природе. Рассмотрим образ сада в романе современного автора с этих позиций.
На наш взгляд, Н. Садур в романе «Сад» создает образ разрушенного сада, воплощая мысль об утраченном рае на земле. Речь идет об утрате гармонии, порядка, ориентиров в том мире, который художественно воссоздан в романе. Образ сада представлен двумя способами: в первой и во второй частях в сознании главных героев — Анны и Алеши, в третьей части он обозначен конкретно — садик-парк, где установлен памятник Гоголю. Следует сказать, что это обусловлено нарративной структурой романа, специфика которой заключается в отсутствии единого рассказчика. Так, повествование в первой части романа ведется от лица Анны, второй — от лица Алеши, третья — от стороннего наблюдателя, т. е. рассказчика-повествователя. В романе представлены разные типы сознаний и разные точки зрения на одни и те же события. Причем речь рассказчиков лишена связи и логики, местами представляет собой поток сознания, и сами герои — это люди нездоровые: у Анны расстроена психика, алкоголизмом страдает Алеша. В повествовании, таким образом, запечатлено их больное сознание.
В первой части «Ветер окраин» сад возникает в воображении Анны, он словно преследует Анну. В ее ощущении это обрывки разорванного («где-то рвануло сад», «…зеленый листик в буране мелькнул…»). Сад, который ей время от времени мерещится, долетает до нее, кажется ей обрывками, рваниной: «…вдруг клочья, рванина какая-то сада... Но вдруг. Бог мой. Бог мой! Рванье какое-то вновь, клочья, брызги где-то кипящего сада и до нас долетели и дальше пролетели»
[4, с. 39]. После своей ошибочной связи с Димой-Дырдыбаем Анна будет объяснять Алеше свое заблуждение, оправдываться в своей ошибке ему: «На меня там сады какие-то валились, пули свистели, глаза мне жгли враги, разное было…» [4, с. 44]. Здесь сад подобен стихии, как порывы ветра, он налетает клочьями, рваниной, брызгами. Это враждебный сад, опасный. «Рванина», «клочья», «брызги» — слова с негативной семантикой — предвещают беду. Сад подобен стихии («завертит, зацепит»), с которой человеку не справиться. Это что-то кипящее («кипень», «сады белокипящие»), то, что способно завертеть человека, поглотить его, оказавшись в этой стихии, человек будет сгорать «в окаянной муке». Когда Анна прозревает, что страстно любит Алешу, она становится одержимой страстью — чувством, которое для нее подобно стихии, сжигающей человека изнутри.
В этом же высказывании открывается и второе значение сада — то, что способно утолить внутренний огонь («…и ты будешь лежать и просить, как воды, сада, сада»), успокоить, утолить жажду. Это, скорее всего, ответное чувство, по силе подобное такой же стихии страсти. В этом смысле сад – то, что приносит человеку наслаждение, отдаленно принимает на себя функцию райского сада.
Наше предположение о том, что это именно страсть, страстное чувство любви, находит подтверждение в истории про рысь, которую Анна рассказывает Алеше. Как известно, рысь является аллегорией страсти. Но в романе автору важно показать, как это чувство возникает и поглощает человека. Рысь, с одной стороны, и доярка Нюра Иванова, с другой — главные герои этой истории. Рысь — пушистое умиление, с кисточками на ушах, свирепое сердечко, золотые глаза, скуластная, смешливая. Доярка Нюра раздразнила рысь — она несла бидон с молоком, молоко плескалось, брызги оставались на снегу. Рысь, сгорая «в муке своей алчбы», вцепилась в горло доярки. Теперь огнем охвачена доярка, но это предсмертный жар: она в крови. Потом двадцать мужиков жестоко расправляются с рысью и тоже начинают температурить. То есть каждый персонаж этой истории с рысью чем-то становится одержимым: рысь страстно хочет молока, Анна жаждет жить, а мужики охвачены жаждой мести.
Чувства рыси очень понятны героине-рассказчице — Анне, она находится в состоянии жара, повышенной температуры: «В буране ли сады летали взрывали ли сады враги где-то же они ворочались белокипящие и до нас долетали каплями» (с. 51). Образ взорванных садов можно прочитать как метафору утраченного счастья. Детали разорванного сада будут рассеяны по всему тексту романа, будут время от времени проявляться с разными значениями.
Чувства рыси очень понятны героине-рассказчице — Анне, она находится в состоянии жара, повышенной температуры: «В буране ли сады летали взрывали ли сады враги где-то же они ворочались белокипящие и до нас долетали каплями» [4, с. 51]. Образ взорванных садов можно прочитать как метафору утраченного счастья. Детали разорванного сада будут рассеяны по всему тексту романа, будут время от времени проявляться с разными значениями.
Сознание рассказчицы кажется больным, воспаленным, женщина потерялась в этой жизни, потеряла саму себя — и это проблема самоидентификации: «Я Алеша как певица как Анна Иванова заслуженная русско-народная буранно-простудная ничейная ниоткудова не евши не пивши не спавши не живши пришла я выплыла аж из метро. Недр парных...» [4, с. 56].
Вторая часть романа «Заикуша» рассказана от лица Алеши. Он работает медбратом в больнице, рожден в буран, в лесу, зимой, вырос у бабы Капы в Волгограде, затем его перевезли в Москву к матери. Образ сада в этой части встречается один раз — в воспоминании Алеши о матери и связан с его детством: «Снилось мне, что мне пять лет, что я стриженый “под машинку”, веселый я, а долговязые (на голову выше деревьев вон тех вон) золотые стрекозы шуршат крыльями на весеннем сквознячке, ведут меня на праздник. И глаза их немыслимы, как земные шары: изумрудны, златны» [4, с. 65].
Как видно, в этом фрагменте образ сада представляется пятилетнему мальчику. Он в Волгограде, и к нему приехала мама из Москвы. Они в саду слушают пение, цветут мальвы. Образ сада успокаивает его, дарует умиротворение на какой-то миг. В финале второй главы, после того как Алеша стал свидетелем сцены приворота Димой певицы, он, чтобы не видеть «окаянного», закрыл глаза и услышал звуки сада: «И вот же, слышу я высоко-высоко, в самых широколиственных кронах шумит сонный ветер. А далеко внизу кто-то маленький трогает битые стекла.
Лето! Середина июля! — догадался я» [4, с. 111].
В отличие от Анны, которая ощущает сад как некую опасность, для Алеши сад — это то, что несет спасение. В третьей главе «Слепые песни» очень важно обратить внимание на образ садика в парке на Никитском бульваре, где установлен памятник Гоголю. Это конкретно обозначенный топос, воплотившийся в художественном образе садика, где жил Памятник. Внешнее пространство, то есть то, что находится за оградой садика, очень холодное, в нем яростно гонит ветер «песок», «рванину», «мятые банки», в нем нет огня, который так необходим холодной осенью, это враждебное человеку пространство:
Пространство внутри садика оживлено. Во-первых, там живет Памятник. Не случайно здесь использование глагола «жил» по отношению к неодушевленному существительному. Во-вторых, этот садик становится местом приюта бездомных людей и животных. В-третьих, это единственное место, где горит огонь, «маленький яркий силач», который объединяет вокруг себя людей и животных (пес и ворона).
Как можно заметить, пространство этого садика разбито на три уровня: верхний, средний и нижний. Каждый уровень наделяется определенными компонентами. В «верхних ветках деревьев» – ветер, ясный, звонкий воздух, птичье пение и, самое главное, там ощущается «несомненная счастливая свобода, прочная, как золото». Человек, попавший туда, испытывает чувство, подобное радости младенца, когда его подкидывает на руках отец. Средний уровень дается в сравнении с нижним. Воздух прохладный, там спокойнее, чем внизу, «в нем осталось немного свободы», «немного вольной воли» [4, с. 414]. Низ — место людей («нижние жители»), воздух там «надышан» ими, там тесно, и ощущение свободы невозможно. Там окаменелая земля, песок, мусор, ветер, ноябрьский холод. Но это самое интересное место, как считает ворона, живущая вверху.
Каждому уровню принадлежат свои жители: трое бездомных людей — Прыгало, Не-надо-не-надо, Хрипун и собака Беглый принадлежат нижнему миру. В «среднем воздухе» живет Памятник. Вверху, на ветках дерева, живет ворона: она является наблюдателем того, что происходит в садике, следит за действиями людей, каркает, когда считает нужным, словно комментируя их действия. Герой-повествователь часто передает ее точку зрения: «Ворона не смотрела на Памятник. Неинтересна была его глухая боль. Он жил в среднем воздухе, а она в верхнем. Самое интересное всегда творилось внизу» [4, с. 116]. Ворона наблюдает за происходящим внизу, все видит, все знает. Являясь предвестником смерти, она знает, что Беглого поймают и увезут в приют для бездомных собак, и там убьют.
Образ огня — объединяющий центр этого фрагмента. Неизвестно, откуда он появился. Он выполняет функцию источника тепла для человека, это то, что поддерживает жизнь. Мифологически огонь выступает оберегом от зла, защитой внутреннего пространства (садика) от внешнего мира (то, что за оградой садика — холод, ветер). Он словно пытается слиться с ветром: «Огонь от ветра взбесился, почуяв безбрежность метущегося воздуха, стал бросаться на кирпичные загородки, добиваться воли, он хотел вырасти, и взреветь, запеть, полететь аж до неба. С любопытством смотрели на ярость огня... Он был молодой. Восхищал» [4, с. 115].
Огонь восхищает, завораживает и одновременно пугает героя-повествователя. С его позиции интересны отношения огня к ветру. Ветер тоже словно одушевлен. Главное его качество — ярость. Огонь притягивает к себе и объединяет вокруг себя бездомных людей, собак, простых прохожих. Ветер же, наоборот, гонит, клонит в низ, заставляет укрываться от него. Огонь связан с холодом: «Холод во всем мире, никто не мил холоду, и холод наружность мира. А огонь внутри холода» [4, с. 117].
Таким образом, сад в романе Н. Садур снижен до садика и является временным приютом для бездомных людей. Памятник Гоголю, огонь, разведенный возле него, — место защиты тепла от внешнего мира, от порывов ветра, осеннего холода, «рванины, мусора, песка». Это символ разлившегося в мире разлада, холода, одиночества.
Список литературы Образ сада в романе Н. Садур «Сад» как отражение трагического разлада в мире
- Лихачев Д. С. Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. 3-е изд., испр. и доп. М.: Согласие, 1998. 471 с.
- Петрова А. В. Роман "Сад" Н. Н. Садур: к вопросу интерпретации // Вестник СПбГУ. Сер. 9. 2013. № 2. С. 69-77.
- Петрова А. В. Творчество Н. Н. Садур (к вопросу интерпретации): дис.. канд. филол. наук. М., 2016. 179 с.
- Садур Н. Н. Ехай. М.: Культурная революция, 2014. 560 с.
- Семеницкая О. В. Поэтика сюжета в драматургии Н. Садур: автореф. дис.. канд. филол. наук. Самара, 2007. 20 с.
- Симон Г. А. Художественная репрезентация антиномии "добро/зло" в творчестве Н. Н. Садур: дис.. канд. филол. наук. Иркутск, 2014. 183 с.