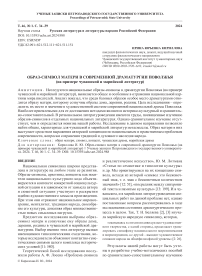Образ-символ матери в современной драматургии Поволжья (на примере чувашской и марийской литератур)
Автор: Кириллова И.Ю.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русская литература и литературы народов Российской Федерации
Статья в выпуске: 1 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Исследуются национальные образы-символы в драматургии Поволжья (на примере чувашской и марийской литератур), выявляется общее и особенное в отражении национальной картины мира писателей. Анализ показал, что среди базовых образов особое место драматургами отводится образу матери, которому созвучны образы дома, деревни, родины. Цель исследования - определить их место и значение в художественной системе современной национальной драмы Поволжья. Наиболее приемлемыми для ее достижения методами являются историко-культурный и сравнительно-сопоставительный. В региональном литературоведении имеются труды, посвященные изучению образов-символов в отдельных национальных литературах. Однако сравнительное изучение отсутствует, чем и определяется новизна нашей работы. Исследование в данном направлении позволило найти общие, характерные для чувашской и марийской литератур метасмыслы. Образ матери в них выступает средством выражения авторской концепции по национальным и нравственным проблемам современности, вопросам сохранения традиций и духовного наследия народа.
Образ матери, символ, концепт, чувашская драма, марийская драма
Короткий адрес: https://sciup.org/147242927
IDR: 147242927 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.988
Текст научной статьи Образ-символ матери в современной драматургии Поволжья (на примере чувашской и марийской литератур)
Национальная символика широко представлена в литературе на любом этапе ее развития. Образы-символы, архетипы, концепты как носители национального культурного кода объективируются в контексте конкретной социокультурной ситуации и в зависимости от замысла автора и сюжетной ситуации участвуют в раскрытии идейно-художественного замысла произведения. При этом они отражают национальное мировоззрение, менталитет, традиции народа, своеобразие его культуры, дополняя образ множественностью новых смысловых нагрузок.
Предметом исследования выбраны образ-символ матери и созвучные ему образы дома, деревни, родины в чувашской и марийской драматургии. Выбор именно этих литератур вызван имеющимися типологическими сходствами, которые исследователи объясняют контактно-генетическими связями целого комплекса исторических условий [11: 580].
Теоретической базой исследования послужили работы А. Ф. Лосева «Проблема символа и реалистическое искусство», Ю. М. Лотмана «Статьи по семиотике и типологии культуры» и др. Мы ориентируемся на их концепцию символа, исходя из которой «символ это бесконечный знак, т. е. знак с бесконечным количеством значений» [12: 51], «посредник между синхронией текста и памятью культуры» [13: 199]. И в чувашском, и в марийском литературоведении специальных работ по данной проблеме нет, однако поставленные вопросы рассматривались в ходе исследования состояния драматургического процесса в целом. Так, Т. Н. Беляева [2], [3] изучала марийскую народную символику, которая,
«оказываясь в стихии индивидуально-художественного творчества, с одной стороны, продолжает транслировать специфику национального миропонимания и мироощущения, а с другой – выводит художественное сознание народа на общефилософский уровень» [2: 26].
Результаты нашей работы могут быть учтены в разработке учебно-методических пособий по сравнительно-сопоставительному изучению национальных литератур Поволжья, в частности чувашской и марийской.
***
Интенсивность обращения к символам, как правило, зависит от социально-исторических перемен и развития общественно-философской мысли в целом. Особое значение они приобретают в переломные эпохи, в период ожидания нового и неизвестного как прогноз, предвестье перемен, готовящихся в жизни общества, нации. Так, социально-общественные изменения рубежа ХХ–XXI веков определили перемены в национальном сознании и художественном мышлении писателей и актуализировали их внимание к народному творчеству, мифологии. Использование национальных образов-символов можно рассматривать и как «возможность смены художественных парадигм, сыгравших немалую роль в разрушении “метаязыка”, культуры соцреализма» [16: 38].
В региональных исследованиях последних лет нередко использование символов в произведениях определяется как типологическая черта современной национальной драматургической литературы [1], [5], [7], [8], [17]. Изучение бытования национальных образов-символов, концептов в структуре художественных произведений также созвучно работам современных региональных исследователей, направленных на выявление национальной специфики, идентичности каждой из литератур [4], [6], [10], [14].
Образ матери как женщины-матери, родительницы в современной чувашской и марийской драматургии встречается довольно часто. Рассмотрим в этой связи монодраму «Хура чĕкеç» (Черная ласточка, 2005) Б. Чиндыкова, трагедию «Кĕмĕл тумлă çар» (Серебряное войско, 1997) М. Карягиной, драму «Мунча кунĕ» (День очищения, 2013) А. Тарасова, монодраму «Марпа» (Марфа, 2011) В. Матвеева, драму «Ава шÿм» (Материнское сердце, 2009) В. Григорьева.
Б. Чиндыков, в творчестве которого на рубеже XX–XXI веков национальная идея прозвучала особенно сильно, образ матери наделяет особым смыслом. В его драматургии идеи всеобъемлющей любви и сострадания предстают в образе матери, ставшей символом носительницы лучших национальных качеств народа. В монодраме «Черная ласточка» история чувашского народа представлена через восприятие главной героини Чегесь. Историю Волжской Булгарии, ее разгром монгольским войском в 1236 году она воспринимает как личную трагедию. Начиная свой рассказ с радостных вос- поминаний детства, девичества, замужества, рождения сына, она заканчивает его суровой реальностью: все мужчины ушли на войну, а женщин забрали в плен. Она осталась одна и бродит на руинах родного города в поисках сына.
Из образа конкретной женщины Чегесь вырастает до национального образа, символизирующего судьбу, женщину-матерь, хранительницу семейно-родового очага и продолжательницу чувашского рода. Она способна взять на себя страдания народа: «Счастье народа стало моим счастьем, горе народа стало моим горем» [9: 407]. В ее трагической судьбе олицетворена судьба всего булгарского народа. Образ Чегесь в драме воспринимается как символ чувашской нации. Учитывая то, что пьеса написана для конкретного человека – народной артистки СССР В. Кузьминой, Б. Чиндыков в целях объединения нации духовно возвысил ее в образе матери чувашского народа, возвел до символа.
Образ матери-прародительницы в условномифологическом ключе раскрывает и М. Карягина в трагедии «Серебряное войско». Взяв за основу мифический сюжет о женщинах-воинах, она рассказывает о жизни далеких предков чувашского народа, когда перед угрозой полного уничтожения рода женщины встают на защиту своего народа под предводительством Мăн Ама . Мăн Ама – праматерь – глава рода, вождь племени, перешагнувшая столетний рубеж. Она выступает в пьесе как мать-хранительница чувашского рода-племени, символ мудрости, мужества, веры в будущее своего народа, объединяющий центр. В создании образа автор опирается на традиционный моральный кодекс народа, по которому высшей честью является глубокое уважение к старшим, корневым предкам. Условно проводя параллель с сегодняшним днем, в героинях-амазонках можно разглядеть эмансипацию современных чувашских женщин, в которых драматург видит хранителей генофонда народа, его языка, продолжателей рода, традиционной культуры.
Образ марийской женщины-матери в исторических реалиях ХХ века раскрывается в монодраме «Марфа» В. Матвеева. Автор показал многострадальную женщину, которая пережила эпоху репрессий и раскулачивания, службу в аэростатной части во время войны, добывала уголь на Урале, работала на ферме, поднимала хозяйство и на склоне лет осталась одна в заброшенной деревне. Но, несмотря на жизненные неурядицы, Марфа не жалуется на жизнь, она приняла ее: любит своего сына Микале, который вот уже
50 лет не вспоминает о ней, а она все надеется перед смертью встретиться с ним.
В национальной драматургии практически неразрывно с образом матери связан образ дома. Образное сочетание, парный образ выражается обоюдно: родной дом ассоциируется с матерью, а мать олицетворяет дом. Если в ранней литературе образ дома подразумевал основу, родину, то в современной литературе он обогатился новыми смыслами: с помощью этого образа актуализируются проблемы сохранения национального наследия и традиций. Аксиологическое значение он приобретает в наши дни, когда урбанистические процессы в российских регионах привели к исчезновению целых деревень. Вместе с деревней, с последними ее жителями-стариками на грани исчезновения находится и традиционное национальное наследие, культурная память предков.
В самой первой ремарке драмы «Марфа» автор дает описание главной героини и ее дома: Марфа – старая одинокая женщина 85–90 лет, ветеран войны, одета кое-как, ее изба – обветшалая, с покосившимся крыльцом. Они словно сравниваются. Рассказывая своей собеседнице (гостье-кукле) о деревне, Марфа показывает на дома, ассоциирующиеся с их жителями, которых уже и не осталось в деревне.
«Марфа: (Указывает на избу напротив) . Вот он, мой Микале! Здесь жил. Меня любил! И я его лю-била…»1
На избу председателя колхоза, отца Микале, указывает с опаской. Он ведь их отца как кулака в тюрьму посадил и последнюю овцу в качестве налога из дома увел. С его домом у Марфы плохие ассоциации, сам дом ей неприятен. В рассказе-монологе она часто упоминает отчий дом: вспоминает о том, как срубил отец, будучи хорошим плотником, крепкую, добротную избу, как счастливо жили они в ней до раскулачивания. В монологе раскрыт драматизм духовного самосознания героини, представления о судьбе, счастье соотнесены с традиционными, национальными.
В драме дом является символом родины, народного образа жизни и традиций. Его пространство способствует раскрытию драматического состояния, внутреннего мира, чувств и переживаний Марфы. По ходу развития сюжета расширяется символическое значение образа дома. Он приобретает национальное значение как место проживания марийского народа:
«М а р ф а : Вот и топчусь здесь одна… За деревню душа болит. Думаю, раз я жива, значит, и деревня наша жива…»
Дом Марфы – это историческая память, богатая воспоминаниями. Как только она покинет мир, эта память уйдет вместе с ней. Образ дома вписан в схему: дом – деревня – нация, которая проходит лейтмотивом через всю пьесу. Постепенное исчезновение деревень, являвшихся основой и чувашской, и марийской нации, приведет к потере национальных начал – языка, обычаев и традиций. Развалившийся дом символизирует разрушающийся мир, постепенное исчезновение марийской деревни, самой нации. Это не только признак пустоты, одиночества, но и критический взгляд на современную жизнь, общество.
Национальные писатели, раскрывая внутренний мир женщины-матери, стараются показать лучшие черты, присущие чувашской и марийской женщине: мудрость, глубокую нравственность, доброту, заботливость. Как мать и хранительница домашнего очага женщина особо почитаема в чувашской народной традиции: Ан-не-Кепе – мать-богиня, Çÿлти Кепе – Верховная Кебе, определяет судьбу всего живущего, посредница между Турă – Богом и людьми в добрых делах [15: 15]. Поэтому женщины острее чувствуют ответственность за детей, за будущее поколение, хотят защитить, сберечь.
Образ-символ матери является одним из способов воплощения нравственного идеала и духовности в творчестве А. Тарасова. Мать в его пьесах наделена добрым сердцем, ответственностью, милосердием, умением прощать обиды, желанием делиться своей теплотой и заботой. Именно мать становится хранительницей нравственных ценностей. В драме «День очищения» Прасук символизирует духовное наследие чувашского народа, его традиционную культуру. Она вырастила своих детей трудолюбивыми, радуется их успехам, но в душе переживает, что они отдаляются от родной земли, деревни. Являясь связующим звеном между поколениями, она боится разорвать эту связь. Прасук понимает, что деревня, ставшая для нее всем миром, не может быть таковой для остальных людей. На предложение сына уехать с ним она говорит:
«Пр а с у к : Не хочу умирать на краю света. Мой край света здесь, недалеко, за околицей чуточку пройти надо. Дома же хочу помереть да лежать рядом с односельчанами, с вашим отцом покойным»2.
Вся ее жизнь прошла в деревне, она не знает другой, здесь похоронены ее близкие люди, муж. Она не хочет быть обузой для детей, переживает, что доставляет им хлопоты. Ее переживания углубляют психологический конфликт, усложняют смысл всей системы образов произведения.
Подобный образ матери мы видим в драме В. Григорьева «Материнское сердце», который воплощает в себе идеал матери и нравственную силу марийского народа. Это пьеса о всепрощающей любви покинутой детьми матери, ее переживаниях и воспоминаниях.
«А н и с ь я : Как любая женщина, вела хозяйство, чтобы вам не пришлось за меня стыдиться. Но одна дума – если умру, что с домом будет? Скотина куда денется? У человека, как и у птицы, должно быть свое гнездо. Когда меня не станет, пусть дом вас к себе позовет. Не разрушайте это гнездо, здесь прошло ваше детство, мои бессонные ночи. Горе, счастье – все было в этом доме»3.
Дом чаще всего описывается как семейное гнездо, где бережно соблюдаются традиции, определяются нравственные жизненные и семейные ценности. Автор предостерегает, что потеря родного дома грозит потерей этих ценно- стей. Пример – дочь Анисьи Нина, проживающая в городе и ни разу не приехавшая к матери. Оторванная от родных корней, она все нравственные ценности поменяла на материальные. И сейчас, узнав о том, что мать тяжело заболела, она приехала в деревню даже не попрощаться с ней, а совершить заранее запланированную сделку по продаже родного дома. Деньги есть, но она так и не познала женского и материнского счастья.
ВЫВОДЫ
Исследование национальных образов в сравнительном аспекте позволило увидеть характерные для чувашской и марийской литератур общие метасмыслы. Так, парные образы матери и дома в национальных пьесах помогли авторам актуализировать проблемы памяти, родственных связей, сохранения родного очага. Образ дома ставит проблему исчезновения деревень, а вместе с этим национальных традиций, обычаев, духовной культуры народа. Образ матери создан в соответствии со шкалой духовных ценностей и нравственных представлений народов.
Список литературы Образ-символ матери в современной драматургии Поволжья (на примере чувашской и марийской литератур)
- Антонов Ю. Г., Габидуллина Ф. И., Кабанова Ю. В. Образ дома в пьесах мордовского драматурга А. Пудина // Вестник угроведения. 2022. Т. 12, № 2. С. 217-226. Б01: 10.30624/2220-41562022-12-2-217-226
- Беляева Т. Н. Архетипические образы в марийской драматургии второй половины ХХ - начала ХХ1 в. // Финно-угорский мир. 2014. № 2. С. 26-30.
- Беляева Т. Н. Поэтика символических образов в марийской драматургии второй половины ХХ в. -начала ХХ1 в.: Монография. Йошкар-Ола: Изд-во МарГУ, 2012. 151 с.
- Бояринова Г. Н. Проблема характера в современной марийской драматургии: Монография. Йошкар-Ола: Изд-во МарГУ, 2005. 127 с.
- Бояринова Г. Н. Художественная роль мифологем в марийской драматургии // Художественная культура народов Волго-Камского полиэтнического региона в парадигме современности: Сб. ст. Йошкар-Ола: Изд-во МарГУ, 2015. С. 38-42.
- Ганиева А. Ф. Архетип матери-хранительницы национальной идентичности в татарской прозе // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. 2022. Т. 32, № 3. С. 623-629. Б01: 10.35634/2412-9534-2022-32-3-623-629
- Зайцева Т. И. Художественное своеобразие драматургии Е. Загребина // Ежегодник финно-угорских исследований. 2022. Т. 16, № 2. С. 269-274.
- Ившина М. В. Символика в пьесе удмуртского драматурга Е. Загребина «Кикы нош силе но силе» (А кукушка все кукует и кукует...) // Слово и текст в культурном и политическом пространстве: Сб материалов. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2021. С. 79-80.
- История чувашской литературы ХХ в.: Коллективная монография: В 2 ч. Ч. 2. (1956-2000). Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2017. 432 с.
- Кириллова И. Ю. Чувашская и марийская драматургия: общее и особенное // Чуваши и марийцы: соседи по «общему дому»: Материалы Межрегион. науч.-практ. конф. Чебоксары: ЧГИГН, 2019. С. 338-349.
- Кириллова И. Ю., Мышкина А. Ф. Особенности зарождения и развития драматургии в чувашской и марийской литературах // Вестник Марийского государственного университета. 2019. Т. 13, № 4. С. 578-582. DOI: 10.30914/2072-6783-2019-13-4-578-582
- Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1995. 320 с.
- Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн: Александра, 1992. 479 с.
- Федоров Г. И. Эстетические традиции художественного выражения женского идеала в чувашской литературе // Национальные традиции в культуре народов Поволжья: Материалы межрегион. конф. Чебоксары: ЧГИГН, 2003. С. 82-93.
- Хузангай А. П. Этнофутуристические тенденции в современной культуре урало-поволжских народов // Национальные традиции в культуре народов Поволжья: Материалы межрегион. конф. Чебоксары: ЧГИГН, 2003. С. 5-20.
- Юсупова Н. М. Особенности символизации в татарской поэзии ХХ века // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2018. № 4 (82). Ч. 1. С. 37-40.
- Kirillova I., Myshkina A. Folklorism in the artistic structure of the Chuvash and Mordovian drama // Proceedings of INTCESS 2022 - 9th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 17-18 January 2022: Online Conference. P. 25-29.