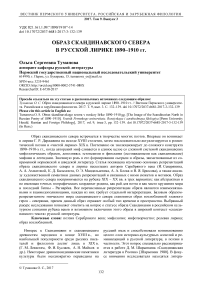Образ скандинавского севера в русской лирике 1890-1910 гг
Автор: Туманова Ольга Сергеевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.9, 2017 года.
Бесплатный доступ
Образ скандинавского севера встречается в творчестве многих поэтов. Впервые он возникает в лирике Г. Р. Державина на исходе XVIII столетия, затем последовательно актуализируется в романтической поэзии и «чистой лирике» XIX в. Постепенно он эволюционирует до сложного конструкта 1890-1910-х гг., когда авторский миф сливается в единое целое со сложной системой скандинавских мифологических образов, дополняясь эстонскими и финскими (осознаваемыми как скандинавские) мифами и легендами. Значимую роль в его формировании сыграли и образы, заимствованные из современной норвежской и шведской литератур. Статья посвящена изучению основных репрезентаций образа скандинавского севера в лирике нескольких авторов Серебряного века (И. Северянина, А. А. Ахматовой, К. Д. Бальмонта, О. Э. Мандельштама, А. А. Блока и В. Я. Брюсова), а также анализу художественной семантики данных репрезентаций и связанных с ними сюжетов и мотивов. Образ скандинавского севера воспринимается на рубеже XIX - XX вв. в трех вариантах: как абстрактная и не имеющая точных географических координат родина, как рай для поэта и как место крушения мира и последней битвы - Рагнарёка. Все перечисленные репрезентации образа являются взаимосвязанными и взаимодополняющими, каждая из них требует отдельной интерпретации. Базовым образом-репрезентантом эпического мира скандинавского севера становится образ возлюбленной главного героя - северянки, причем данный образ отражает особый тип времени и пространства. Выбранный ракурс исследования позволяет ответить на вопрос о статусе образа Скандинавии в российском культурном сознании рубежа веков и возможном включении этого образа в широкий контекст «скандинавского текста» русской литературы.
Поэзия серебряного века, мифология, мифотворчество, ролевая лирика, образ возлюбленной
Короткий адрес: https://sciup.org/14729519
IDR: 14729519 | УДК: 821.161.1.09."1890/1910"-14 | DOI: 10.17072/2037-6681-2017-3-132-139
Текст научной статьи Образ скандинавского севера в русской лирике 1890-1910 гг
турные связи России и стран Севера в период от эпохи Просвещения до начала ХХ в. Заслуживает упоминания библиографический указатель по исландской литературе Б. А. Ерхова [Ерхов 1997], в котором систематизированы сведения о переводах произведений исландской литературы и фольклора, а также содержатся сведения о печатных материалах, которые посвящены творчеству отдельных исландских писателей и исландской литературе в целом.
Симптоматично, что долгое время образ Скандинавии представлял интерес в границах оппозиции «свое / чужое», часто становясь при этом объектом междисциплинарных исследований (в этом отношении показательна статья В. С. Петрова «Игорь Северянин: Россия и Эстония» [Петров 2004]). В рамках другой оппозиции – «север / юг» – Е. К. Созина рассматривает образ Скандинавии в северных нарративах в литературе путешествий начала ХХ в. [Созина 2016]. Несмотря на глубокое изучение истории перевода скандинавской литературы на русский язык и влияния драматургии Г. Ибсена и А. Стриндберга на русскую культуру начала ХХ столетия, видение скандинавского севера русской поэзией оказалось в непосредственном фокусе историко-литературных исследований относительно недавно. Материалы международной конференции «Россия и Скандинавия: литературные взаимодействия на рубеже XIX– XX вв.» и научного семинара «А. Блок и Скандинавия», проведенных Институтом мировой литературы им. А. М. Горького 24–26 октября 2013 г., весьма убедительно свидетельствуют об этом. Так, Л. С. Гульба прослеживает мотивы скандинавской мифологии в поэзии Серебряного века на материале стихотворений В. Брюсова и А. Блока [Гульба 2014]. К биографическим аспектам видения Скандинавии К. Бальмонтом обращается Н. В. Дзуцева [Дзуцева 2014].
Отдельно следует отметить ряд работ, посвященных географическим образам, символам и мотивам в лирике Н. С. Гумилева: монографии Е. Ю. Раскиной «Поэтическая география Н. С. Гумилева» [Раскина 2006] и «Геософские аспекты творчества Н. С. Гумилева» [Раскина 2009], а также статью Л. М. Дедовой «Скандинавия в лирике Н. С. Гумилева» [Дедова 2011]. Е. Ю. Раскина делает ценные замечания о куль-туронимах в поэтическом мире Н. С. Гумилева – географических реалиях, наполненных культурно-философским и религиозным смыслом. Исследовательница отмечает, что «путешествие лирического героя сродни познанию, открытию, называнию, одухотворению и окультуриванию земного пространства» [Раскина 2009: 34]. Л. М. Дедова анализирует скандинавские мотивы в лирике Н. С. Гумилева, связывая их с «русской идеей» в его поэзии.
Целью настоящей статьи является изучение основных репрезентаций образа скандинавского севера и исследование их художественной семантики в лирике таких авторов Серебряного века, как И. Северянин, А. А. Ахматова, К. Д. Бальмонт, О. Э. Мандельштам, А. А. Блок и В. Я. Брюсов. Выявление основных образов-репрезентантов Скандинавии и соотнесение их с поэтической традицией Серебряного века, рассмотрение взаимосвязи возникающих образов мифологии и культуры с типом субъекта лирического повествования помогают ответить на вопрос о статусе образа Скандинавии в российском культурном сознании рубежа веков. Под репрезентацией вслед за М. Ямпольским здесь и далее будем понимать «особую форму представления реальности, основанную на замещении некоего объекта его иллюзионным изображением» [Ямпольский 2007: 6]. Так, «заместителями» образа Скандинавии в лирике Серебряного века становятся образ возлюбленной и творчески переосмысленные образы скандинавской мифологии. С. И. Пискунова обращает внимание на важную функцию репрезентации, также принципиально значимую для нашего исследования в аспекте субъектнообъектной организации текста: «Репрезентация может служить средством объективации содержания сознания героя и / или его творца как главных субъектов и объектов повествования» [Пискунова 2014].
В русской поэзии 1890–1910 гг. зарождается синкретичный образ «России-Скандинавии». Он широко представлен в лирике Игоря Северянина. Образ севера как части родины предстает в аскетичных тонах, он связан с мотивами тоски и ожидания, но именно он важен как отправная точка для индивидуального мифотворчества поэта. «Мне нравится унылая природа / Мне дорогого севера с красой / Свободного славянского народа / С великою и гордою душой. / На север я хочу! На север милый!» [Северянин 1999: 178]. Через призму образа русского севера начинает конструироваться образ скандинавского севера, противостоящего в более позднем творчестве итальянскому югу и отчасти бросающего вызов «итальянскому мифу русской культуры»: «Тебя все манит Калабрия, Меня – Норвегии фьорд» (1909) [Северянин 1999: 314].
Север как часть родной земли представляется поэту концентрированным образом России. С ним прочно ассоциированы такие топосы, как лес, степь, поле. Образ леса связан с народной культурой: «Мне чудится, что леший правит свадьбу / Пируя у невесты, у Яги»; «Мне чудится, что рядом пляшут бесы, / И ведьмы сзади водят хоровод» (1905) [там же: 178]. Русский север – это «мерзлое царство снега», «волшебные пейзажи, бегущие при трепетной луне», «лес в одежде цвета изумруда» [Северянин 1999: 178]. Этот дикий мир является родным для лирического героя, именно его он маркирует как «свое» пространство: «Я – властелин над ними! Я – хозяин / Я здесь дышать и властвовать могу» [там же: 178], его он готов воспевать. Но север манит героя не только своим романтическим колоритом; север символизирует духовную чистоту, здесь «правду видит… радостный взор» [там же: 179]. Герой шлет югу лишь ироничный «северный привет» (1909) [там же: 88].
Образ севера в лирике О. Э. Мандельштама, младшего современника И. Северянина, репрезентируется через топос Вальхаллы и также сохраняет связь с архаической традицией, но при этом имеет некоторые окказиональные черты: «А там дубовая Валгалла / И старый пиршественный сон: / Судьба велела, ночь решала, / Когда проснулся телефон» (О. Э. Мандельштам «Телефон») [Мандельштам 1990: 117]. Эпитет «дубовая» (включающий в себя значение «незыблемый»), примененный к образу Вальхаллы, является окказиональным привнесением. Конечно, можно предположить, что он символизирует прочность и незыблемость мироздания, однако это может быть и ассоциация с северным лесом или даже с мировым древом (несмотря на то, что канонический Иггдрасиль – это ясень, ассоциативное мышление О. Э. Мандельштама могло внести некоторые инновации). Интересным нам кажется замечание А. А. Афанасьева: «Предания о мировом древе славяне относили преимущественно к дубу. В их памяти сохранились сказания о дубах, которые существовали еще до сотворения мира» [Афанасьев 1982: 214]. Таким образом, определение дубовая может считаться элементом славянизирования топоса Вальхалла. «Пиршественный сон» – на первый взгляд, несомненно, архаический мотив. Между тем топос Вальхалла – мир битвы, в котором нет места сну. Вальхалла как образ, претерпевший окказиональные изменения, – это незыблемый, непоколебимый мир абсолютной статики. Однако в другом тексте мы видим полное следование архаической традиции: «В серебряном ведре нам предлагает стужа / Валгаллы белое вино, / И светлый образ северного мужа / Напоминает нам оно» (О. Э. Мандельштам «Когда на площадях и в тишине келейной…») [Мандельштам 1990: 135] . Ассоциации Вальхаллы со светом и холодом весьма любопытны: в соседстве с образом «северного мужа» они воссоздают канонический визуальный (а не только звуковой, ранее традиционный для русской лирики) образ севера.
«Звуковое» видение скандинавских мифологических образов является специфически русской чертой, сложившейся с XVIII в. в русской поэзии, когда образ Вальхаллы начинает расширяться за счет звуковых, а не визуальных ассоциаций. Этой традиции положил начало Г. Р. Державин в стихотворении «На победы в Италии» (1799): «Се Рюрик торжествует / В Валкале звук своих побед » [Державин 1985: 386]. В этом же стихотворении валка (т. е. валькирия) бьет в «далекозвонкий щит» . В XIX в. эту традицию продолжили А. Н. Майков и В. Ф. Раевский.
Факт возникновения такого рода поэтических ассоциаций можно объяснить тем, что в сагах «Старшей Эдды» визульный образ Вальхаллы прописан предельно точно (например, в саге «Речи Гримнира», которая может служить своего рода путеводителем по Асгарду); в названной саге имеется упоминание о «блеске мечей, Вальхаллу озаряющем» [Старшая Эдда 1975: 211]. Вероятно, по аналогии возник метонимический перенос по принципу: свет мечей – звук (лязг, звон оружия в битве, военные трубы и т. п.). Поэтому русская Вальхалла обрела звучание поля брани и победного пиршества (звон струн) и надолго застыла в поэтической традиции именно в таком виде.
В то же время север может быть представлен как реальное, но недоступное лирическому герою пространство. Как правило, с ним связан яркий образ-репрезентант – образ возлюбленной лирического героя (например, «северянка», «Сольвейг полярная, блондинка печальная», «Ингрид» в поэзии Игоря Северянина, «валькирия-Ольга» в лирике Н. С. Гумилева, валькирия как идеал героя-воина в современной ролевой лирике), с которой он в разлуке. Она является своеобразным «проводником» в иной мир скандинавского севера (и вызывает определенные ассоциации с обитательницами Асгарда, «верхнего мира»).
Образ северянки Сольвейг, героини пьесы Г. Ибсена «Пер Гюнт», является одним из воплощений Прекрасной Дамы для лирического героя А. Блока (стихотворения «Сольвейг» и «Сольвейг! О, Сольвейг! О, Солнечный Путь!» (оба – 1906)) [Блок 1960: 96]. С этим образом оказываются связанными устойчивые мотивы прозрения, духовного исцеления, познания сути жизни и обретения истинной любви. Ибсеновская героиня – это идеальный собирательный образ скандинавской женщины, одновременно и носительницы памяти о героическом викингском прошлом, и верной возлюбленной, ожидающей лирического героя «на том берегу». Вследствие высокой степени исследованности «ибсеновского текста» в русской литературе (и в творчестве
А. А. Блока, в частности) не имеет смысла останавливаться на данных стихотворениях. Рассмотрим подробнее образ севера в лирике А. А. Блока, который оказывается обойденным вниманием исследователей. Наиболее часты обращения к образу севера в 1900–1909 гг. Север в лирике Блока задается как вектор движения души лирического героя, конечная цель фантомного путешествия, что можно заметить в стихотворениях «Шел я на север безлиственный…» (1900), «Пробивалась певучим потоком» (1902) или «Дали слепы, дни безгневны…» (1904). Лирический герой Блока называет север «давним другом» в стихотворении «На чердаке» (1906) [Блок 1960: 205], ради севера герой оставляет другой сакральный локус русской лирики – Венецию: «Мы из Венеции на север шли…» (1902) [там же: 500]. Путь на север – это своеобразная инициация лирического героя Блока, он оставляет позади все наносное и сиюминутное. В представлении лирического героя север творит метаморфозы с временем и пространством: «В день превращал живую ночь» [там же: 266], аскетизм бесплодных земель замедляет ход времени ( «Тихонько тлеет жизнь моя» ) [там же: 75].
Пространство севера вносит коррективы в образ возлюбленной: он становится в некоторой степени пугающим – она олицетворяет и холод, неживое начало, она приходит из «снегового сумрака» и ведет за собой «вьюжные трели» [там же: 81]. В стихотворении «На чердаке» с образом возлюбленной связана тема смерти – возлюбленная лирического героя спит в ледяном гробу, что можно считать имманентной отсылкой к норвежской несказочной прозе, визуализированной художником Т. Киттельсеном.
Образ севера в лирике А. А. Блока, несмотря на постоянно подчеркиваемую амбивалентность «пространство жизни – пространство смерти», все же осознается лирическим героем как пространство непростого принятия жизни и творчества во всех противоречиях – скорее чистилища, нежели рая.
Образ северянки Сольвейг, идеальной возлюбленной лирического героя, появляется в стихотворении «Кэнзель Х» И. Северянина. На ассоциативном уровне образ возлюбленной воспринимается как целебное средство от духовной слепоты лирического героя, «этический маяк» на пути обретения чистоты и прозрения (которые, согласно концепции поэта, можно обрести лишь на севере).
Портрет возлюбленной-северянки изобилует цветовыми эпитетами: она – «ледяная сапфирно-жемчужная царица» [Северянин 1999: 124], «лебедь белая, голубка сизая» [там же: 125],
«среброструнная» [там же], «неземная и бирюзовая» [там же: 263].
В лирике Серебряного века имеется прецедент обращения к пространству-субституту Скандинавии. Так, лирического героя И. Северянина окружает полумифическая страна «Эстляндия», она примиряет его с действительностью, являясь преддверием свидания с возлюбленной в желанной Скандинавии: «О, сказанья про Ингрид! О, Норвегии берег! / О, эстляндские зори! / Лишь в Эстляндии светлой мне дано вас увидеть / наяву!» («Эстляндская поэза») [Северянин 1999: 263].
Таким образом, пространство «Эстляндия» органично вписывается в сакральный для поэта синтетический образ севера. Соединение образов эстонской и скандинавской мифологии в художественном мире И. Северянина способствует созданию универсального образа Скандинавии. На севере лежит воображаемая страна Миррелия; имя «Сканда» становится одновременно синонимом имени любимой и наименованием желанной страны. В рамках этого мифологизированного топоса начинают существовать стилизованные под исландские саги авторские сказания (например, об Ингрид и Эрике). Однако иных прецедентов создания пространства-посредника в поэзии ХХ и ХХI вв. встречено не было.
Север – центр духовных устремлений безымянного героя поэмы А. А. Ахматовой «У самого моря» (1909). Север «сероглазого мальчика» (прототипом которого традиционно считается Н. С. Гумилев [Фридлендер 1995: 115]) не имеет точной географической локации, впрочем, как и север в лирике Серебряного века в целом. С севером и с «мальчиком» ассоциативно связана одна и та же холодная, практически ахроматическая цветовая гамма – сочетание серого и белого цветов (« сероглаз был высокий мальчик», «он принес мне белые розы»), причем цветовые определения «сероглазый» и «белый», подобно географической абстракции «север», дважды повторяются во фрагменте, посвященном неудачливому поклоннику лирической героини. Такие лексические повторы, свойственные сказовому языку поэмы «У самого моря», сводят на нет вероятность случайной ассоциации и дают нам основания говорить о мифологизации образа севера в контексте поэмы Ахматовой, причем этот процесс является односторонним: для героя север – некий абстрактный топос, место, куда грезящий высокими рыцарственными помыслами герой-мечтатель хочет сбежать с возлюбленной. Рыцарственность молодого героя подчеркнута при помощи символики цвета: белая роза свидетельствует о высоте помыслов, серый цвет глаз героя косвенно номинирует цвет северного неба.
Однако для лирической героини образ севера лишен романтического флера, поскольку мир грез «мальчика» безразличен ей («Оттого что я не хотела // Ни роз, ни ехать на север») [Ахматова 1997: 269].
Как отдельный северный топос, не нуждающийся в репрезентанте, Вальхалла широко распространена в лирике К. Д. Бальмонта. Образ Вальхаллы в стихотворении «Среди шхер» (1908) у него сопряжен с водной стихией: «Пред вами, картина такая, / Что с уст не срывается слово, – / И белая пена морская – / Как кудри царя водяного, / И брызг серебристых кристаллы, / И путь ваш в пучине безбрежной – / Как будто бы в царство Валгаллы / Вы мчитесь с валькирией нежной» . Связь образа Вальхаллы с водой раскрыта и в лирическом цикле «Вода» (часть 4 «Но переменная вода…»): «Из влаги восстают кораллы, / И волны бешено кругом / Несутся в строе боевом, / Как викинги в предел Валгаллы » [Бальмонт 1994: 177].
Можно предположить, что соотнесение водной стихии с Вальхаллой осуществляется на основе чисто фонетических ассоциаций (волны, влага). Кроме того, водная стихия ассоциируется с мореплавателями-викингами, соответственно, и со всем скандинавским миром. Однако у К. Д. Бальмонта есть и более классические варианты употребления данного образа: «И если ты викинга счастья лишишь – в самом / царстве Валгаллы рубиться, / Он скажет, что Небо беднее Земли, из Валгаллы / он прочь удалится. / И если певцу из Славянской страны ты скажешь, / что ум есть мерило, / Со смехом он молвит, что сладко вино, / и песни во славу Ярила» (К. Д. Бальмонт «Самоутверждение»); «В лабиринтах ли Индийских, или в бешеной / Валгалле , / На уступах пирамидных Мексиканских теокалли, / Всюду – Демону в угоду – истязание умов, / Трепет вырванного сердца, темный праздник, темный / ров» (К. Д. Бальмонт «Пронунсиамиэнто» (1908)); в стихотворении «Туманный конь» (1908): «Мистар-Марр гремит копытом, брызги молний – / чада мглы. / Быстро вороны промчались, реют с клекотом орлы. / На кровавой красной ткани судьбы выткала Сеанеита. / К пиру! В Вальгелль ! Там сочтем мы, сколько / воинов убито» [там же: 179]. Несмотря на то что образ предстает в необычном окружении славянских и ацтекских мифо-нимов, в нем сохранены архаические черты: Вальхалла подается как рай, причем этот рай характеризуется эпитетом «бешеный».
Скандинавский север предстает не только как потенциальный рай, но и как место последней битвы. Образ Рагнарёка – конца света в скандинавской мифологии, сопряженного с гибелью богов и выходом из бездны хтонических чудовищ, – принадлежность исключительно поэзии ХХ в. Согласно «Старшей Эдде», предвестниками Рагнарёка стали трагическая смерть прекрасного бога Бальдера (Бальдура), а затем – нарушение родовых норм, кровавые распри родичей, моральный хаос.
Рагнарёк в начале ХХ в. предрекал ролевой герой В. Я. Брюсова в стихотворении «Бальдеру Локи» (1904). Текст В. Я. Брюсова построен как монолог от лица Локи (в данном случае речь идет именно о ролевом герое). В текст заложена изначальная антитеза «свет (Бальдер) – тьма (Локи)»: «Светлый Бальдер! мне навстречу / Ты, как солнце, взносишь лик. / Чем лучам твоим отвечу? / Опаленный, я поник» [Брюсов 1973: 56]. Герой Локи – это герой-завистник, мотивы зависти и соперничества в стихотворении проявляются на уровне ряда противопоставлений: «Я взбегу к снегам, на кручи: / Ты смеешься с высоты! / Я взнесусь багряной тучей: / Как звезда сияешь ты!» [там же]. Локи В. Я. Брюсова всесведущ: он знаком с пророчеством о судьбе Бальдера так же, как и о своей собственной. При этом он не пытается преодолеть его силу. Напротив, он изображен в порыве злобного торжества, именно он (а не пророчица-вельва) изрекает предсказание о Рагнарёке, гибели богов, и в этом проявляется темная, демоническая ипостась Локи как бога хаоса, бога-разрушителя: «День настанет: огнебоги / Сломят мощь небесных сил, / Рухнут Одина чертоги, / Рухнет древний Игдразил. / Выше радуги священной / Встанет зарево огня, – / Но последний царь вселенной, / Сумрак! сумрак! – за меня» [там же]. Локи берет на себя функции прорицательницы-вельвы, и эту деталь образа можно трактовать по-разному: как своего рода «спор с судьбой», когда герой намеренно нарушает сакральные правила, или же как проявление женской ипостаси образа. Локи позиционирует себя в качестве того, кто выйдет победителем из Рагнарёка. Существует черновой вариант данного стихотворения, в котором наиболее ярко демонстрируется связь образа Локи с другими хтоническими персонажами – инеистыми великанами-йотунами, волком Фенриром и др.: «Солнце, звезды, месяц – канут. / Фенрис, сын мой, кинет клик, / дети сумрака восстранут / В ярой мести на владык. / Айфы, йоты, огнебо-ги / Выйдут против светлых сил! Все, что тленно, что нетленно / Сгинет в ярости огня» [там же]. Такое изображение Рагнарёка полностью соответствует канону, установленному в «Старшей Эдде» (сага «Прорицание вельвы» [Старшая Эдда 1975: 181]). Однако в контексте данного стихотворения огонь, от которого по- гибнет мир, мыслится не как очистительный, а как подвластный, управляемый Локи. Однако Рагнарёк есть вторичная цель Локи. Истинная победа для него – гибель Бальдера: «И когда за темной Гелой / Ты сойдешь к зловещим снам, – / Я предам, со смехом, тело / Всем распятьям! всем цепям!» [Брюсов 1973: 56]. Мотив распятия можно рассматривать не только как месть Бальдеру и надругательство над его телом, но и с точки зрения христианской символики. В последнем случае очевидна параллель, проведенная автором: Бальдер как жертва на кресте, герой, которому суждено воскрешение после Рагнарёка (своего рода «второе пришествие»).
В эддических сагах мотив зависти и мести Локи Бальдеру почти не выражен, злодеяния Локи, направленные против асов и, конкретно, Бальде-ра, объясняются скорее перманентной спецификой характера Локи: двуличностью, изворотливостью, хитростью, коварством. В. Я. Брюсов органично вписывает данные мотивы в структуру образа Локи, в результате чего образ становится более ярким и пластическим. Образ Бальдера в данной интерпретации также обогащается, насыщаясь библейскими аллюзиями (Авель, Христос) и становясь многомерным. Таким образом, на рубеже веков преодолевается каноническое, одномерное изображение эддических персонажей (например, у Г. Р. Державина или А. Н. Майкова), однако при этом устоявшийся канон не разрушается, а дополняется и расширяется новыми мотивами и аллюзиями.
Таким образом, амбивалентный образ скандинавского севера, ассоциируемый одновременно и с жизнью, и со смертью, и с любовью, мифологизируется русскими поэтами рубежа XIX–XX вв. в нескольких направлениях. Варианты репрезентации отражают направления мифологизации: с одной стороны, это север, видимый в романтическом свете, «сакральная родина души» (что можно проследить в лирике И. Северянина или в поэме «У самого моря» А. А. Ахматовой), с другой стороны – иной мир, поэтическая Вальхалла, пространство конца земной и начала вечной жизни (наблюдается у А. А. Блока, К. Д. Бальмонта, О. Э. Мандельштама). Связь образа скандинавского севера со смертью может быть реализована через эсхатологические мотивы и апокалиптическую символику (в дилогии В. Я. Брюсова «Бальдеру Локи») – этот пример показывает, как мироощущение переломной эпохи определяет рецепцию образов скандинавской мифологии и как миф превращается в «антимиф». Функционирование образа скандинавского севера в эпоху кардинальных изменений культурной парадигмы 1890–1910 гг. органично соотносится с поиском идентичности и новых художественных форм, освоением литературой нового пространства в сочетании с конструктивистскими практиками поиска «потерянного рая».
Perm State University
Список литературы Образ скандинавского севера в русской лирике 1890-1910 гг
- Афанасьев А. А. Мировое древо: избранные статьи/под ред. В. П. Кирдан. М.: Современник, 1982. 464 с.
- Ахматова А. А. Сочинения: в 2 т. М.: Худож. лит., 1990. 494 с.
- Бальмонт К.Д. Собрание сочинений в двух томах. Можайск: Терра, 1994. 704 с.
- Белый А. Избранное. СПб.: ТОО «Диамант», 1997. 448 с.
- Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах/пер. с др.-исл. А. Корсуна; предисл. А. Я. Гуревича. М.: Худож. лит., 1975. 752 с.
- Блок А. А. Собрание сочинений в восьми томах/под общей ред. В.Н. Орлова и др. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1960. 516 с.
- Брюсов В. Я. Собрание сочинений в семи томах/под общей ред. П. Г. Антокольского и др. М.: Худож. лит., 1973. 479 с.
- Гульба Л. С. Скандинавская мифология в творчестве В. Брюсова и А. Блока. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/skandinavskaya-mifblogiya-v-tvorchestve-v-bryusova-i-a-bloka (дата обращения: 15.03.2017).
- Дедова Л. М. Скандинавия в лирике Н. С. Гумилева. URL: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/74431255 (дата обращения: 15.05.2017).
- Державин Г. Р. Сочинения/сост., биогр. очерк и коммент. И. И. Подольской. М.: Правда, 1985. 576 с.
- Дзуцева Н. В. «В зеленых глазах твоих, Скандинавия.» (Об одном иваново-вознесенском эпизоде биографии К. Д. Бальмонта)//Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания ХХ века: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 6/Иван. гос. ун-т. Иваново, 2014. С. 140-148.
- Ерхов Б. А. Художественная литература скандинавских стран в русской печати: библиогр. указатель. М.: Рудомино, 1997. 165 с.
- Мандельштам О. Э. Стихи. Пермь: Перм. кн. изд-во, 1990. 382 с.
- Петров В. С. Игорь Северянин: Россия и Эстония//«Свое» и «чужое» в культуре народов европейского Севера: материалы 4-й Междунар. науч. конф./Петрозаводск. ун-т. Петрозаводск, 2003. С. 75-79.
- Пискунова С. И. Репрезентация как тема и эстетический принцип М. де Сервантеса. URL: http://cyberleninka.ru/article/ni/reprezentatsiya-kak-tema-i-esteticheskiy-printsip-tvorchestva-m-de-ser-vantesa (дата обращения: 15.03.2017).
- Раскина Е. Ю. Геософские аспекты творчества Н. С. Гумилева. М.: МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2009. 200 с.
- Раскина Е. Ю. Поэтическая география Н. С. Гумилева. М.: МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2006. 164 с.
- Северянин И. Тост безответный. Стихотворения, поэмы, проза. М.: Республика, 1999. 543 с.
- Созина Е. К. Север в литературе путешествий начала ХХ века//Русский травелог XVIII-XX веков: маршруты, топосы, жанры и наррати-вы/Новосиб. гос. пед. ун-т. Новосибирск, 2016. С.151-182.
- Смирницкая О. А. Софья Свириденко и ее «Эдда». URL: http://norse.ulver.com/articles/smirn/sviridenko.html (дата обращения: 14.03.2017). Старшая Эдда/вступ. ст. А. Гуревича. М.: Худож. лит., 1975. 752 с.
- Фридлендер Г. М. Пушкин. Достоевский. «Серебряный век»: статьи о Пушкине, о творчестве Достоевского, очерки о русских писателях конца XIX и XX века. СПб.: Наука-СПб., 1995. 523 с.
- Шарыпкин Д. М. Скандинавская литература в России. Л.: Наука, 1980. 323 с.
- Ямпольский М. Ткач и визионер: Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре. М.: Новое лит. обозрение, 2007. 616 с.