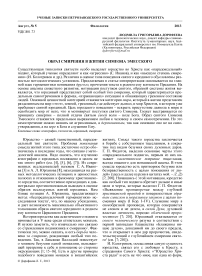Образ смирения в Житии Симеона Эмесского
Автор: Дорофеева Людмила Григорьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (134), 2013 года.
Бесплатный доступ
Существующая типология святости особо выделяет юродство во Христе как «парадоксальный» подвиг, который ученые определяют и как «агрессию» (С. Иванов), и как «высшую степень смирения» (И. Кологривов и др.). Различия в оценке типа поведения святого юродивого обусловлены разностью методологических установок. Предлагаемая в статье интерпретация основывается на главной идее герменевтики понимания другого, прочтения текста в родном ему контексте Предания. На основе анализа сюжетного развития, мотивации поступков святого, образной системы жития выявляется, что юродивый представляет собой особый тип смирения, который характеризуется предельным самоотречением в формах, «взрывающих» ситуацию и обнажающих греховное состояние людей. Основной ценностной категорией становится категория мира, который в житии представлен разделенным на мир «этот», земной, греховный, где действует дьявол, и мир Христов, в котором уже пребывает святой юродивый. Цель юродского поведения - вскрыть присутствие дьявола в мире и освободить мир от него, что и мотивирует поступки святого Симеона. Сюжет выстраивается по принципу синергии - полной отдачи святым своей воли - воле Бога. Образ святого Симеона Эмесского становится предельным выражением любви к человеку в своем самоотречении. Но это самоотречение можно назвать не агрессивным, а дерзновенным, так как основано оно не на самоутверждении, а на вере в Бога и служении Ему.
Агиография, типология, юродивый, смирение
Короткий адрес: https://sciup.org/14750462
IDR: 14750462 | УДК: 801.73
Текст научной статьи Образ смирения в Житии Симеона Эмесского
Юродство – самый таинственный, парадоксальный тип святости. Проблема понимания смысла житий этого типа достаточно остро обозначилась в последние годы, что связано с методологией анализа. Надо сказать, что изучению агиографии о юродивых посвящено в целом не так много работ (см. [4], [5], [6], [7]). Из современных исследователей назовем С. А. Иванова [3] и А. Л. Юрганова [8], находящихся на разных методологических позициях и ценностных полюсах в отношении к феномену христианского юродства, соответственно приходящих к диаметрально противоположным выводам в оценке образов исследуемых житий юродивых. Нам ближе позиция А. Юрганова, предлагающего метод «беспредпосылочной герменевтики» исследования текста1, что, по нашему убеждению, и дает возможность максимально объективного толкования образа святого юродивого в родном ему контексте Церковного Предания.
История юродства как аскетического подвига начинается в V веке среди египетских монахов. И нужно заметить, что изначально оно связано со стремлением подвижника к смирению2. Фактически это, можно сказать, и есть борьба человека за смирение, рождающая особый тип поведения. Так, в Лавсаике Палладий повествует о мнимом безумии одной монахини, вызывающей презрение к себе и поношение со стороны окружающих [1; 15–16]. Есть и другие примеры подобного поведения монахов в византийских житиях. Смысл такого юродства заключается в борьбе с собственным тщеславием, в сокрытии под видом безумия своих духовных даров. Г. П. Федотов, выделяя основные черты этого «парадоксального подвига», первым из них называет «аскетическое попрание тщеславия, всегда опасного для монашеской аскезы. В этом смысле юродство есть притворное безумие или безнравственность с целью поношения от людей» (здесь и далее курсив в цитатах мой. – Л. Д.) [7; 200]. Начавшись с этой мотивации, юродство как особый тип подвига обретает дальше и иные цели и черты, которые выделил Г. П. Федотов: «Выявление противоречия между глубокой христианской правдой и поверхностным здравым смыслом и моральным законом с целью посмеяния миру (I Кор. I–IV). Служение миру в своеобразной проповеди, которая совершается не словом и не делом, а силой Духа, духовной властью личности, нередко облеченной пророчеством» [7; 201]. Юродивый отказывается от своего человеческого разума в соответствии с первой заповедью блаженства «Блаженны нищие духом», доводимой им до своего предела, что и открывает в нем дар пророчества, свидетельствующий о глубочайшем смирении свято-го3 (см. [7; 201]).
И. Кологривов, осмысливая самую сущность юродства, связал его с любовью к Кресту, к страданиям Самого Христа: «“Юродство Христа ради” и есть не что иное, как одна из форм, одно из проявлений этой любви ко кресту… Сущность этого “подвига” в добровольном принятии на себя унижений и оскорблений для достижения высшей степени смирения, кротости и благости сердечной и, тем самым, для развития любви, даже по отношению к врагам и преследователям. <…> Это – полный отказ от собственного человеческого достоинства… смирение, доведенное до героической степени... впадающее по внешней видимости в крайность. Но в сердце юродивого жива память о Кресте и Распятом, о пощечинах, плевках, бичевании, и она-то и побуждает его в любой момент переносить Христа ради поношение и угнетение» [5; 239–240].
Здесь и нужно искать принцип, по которому, во-первых, выстраивается сама жизнь юродивого и, во-вторых, пишется житие. Ведь в житии любого святого действует в качестве главного принцип уподобления . Только в каждом типе подвига есть некий свой выбор, некий акцент на одной из сторон Личности и Образа Христа. Безусловно, образ святого юродивого рождает совершенно иную модель поведения, нежели любой другой тип святости. Формы его поведения часто таковы, что их трудно назвать проявлением смирения, если не помнить о мотивации этого поведения и не видеть его результатов.
Обратимся к житию «классического» святого юродивого – Симеона Эмесского («Жизнь и деяния аввы Симеона, юродивого Христа ради, записанные Леонтием, епископом Неаполя Критского» [1; 53–83]), написанному в середине VII века [2; 107].
Житие включает две части, неравноценные по объему. Вначале дана история аскетического пути, как в монашеском житии, в соответствии с принципом пространственно-временной последовательности и с акцентом на проблеме выбора пути святыми и Промысла о них Бога. А затем начинается совсем другая история – юродства св. Симеона, которая потребовала иного принципа повествования и сюжетно-композиционных средств. Вся вторая – и основная – часть жития представляет собой описание самых разных поступков юродивого.
Заметим, что в этом житии не один, а двое святых, и первая часть жития по сути посвящена им обоим: их желанию стать монахами, поиску ими воли Бога и действию Промысла Божия. Здесь сюжетное движение определяется этим поиском. Подвизались Симеон и Иоанн в пустынножительстве 29 лет, вплоть до призвания Симеона на новое поприще. И Симеон до своего вступления на путь подвига юродства уже стал опытным аскетом, его телесность уже обрела бесстрастие. Как пишет Леонтий, к этому времени святые Иоанн и Симеон «достигли великого совершенства, особенно Симеон из-за присущей ему простоты и чистоты (ведь по пребывающей в нем благодати Святого Духа он не чувствовал страданий, холода, голода, зноя и как бы преступил пределы природы человеческой)» [1; 66]. И вот после 29 лет подвижнической жизни в пустыни Симеон уже «не видел пользы» там оставаться. Почему? Ведь, достигнув бесстрастия, можно совершать подвиг молитвы за весь мир, и таковых примеров было достаточно среди монашествующих IV–VIII веков, о чем говорят древние жития и патерики. Нам видится, что агиограф здесь смотрит на события, изображаемые им, со стороны идеи Божественного Домостроительства, а не со стороны частной судьбы человека, хоть и святого. Но с другой стороны – он пишет о конкретном святом, о его пути к святости. Обратим внимание, что практически в каждом ранневизантийском монашеском житии легко просматриваются этапы пути святого, в которых есть период уединенности монаха, сменяющийся выходом в мир для служения ему. Но впервые житие повествует о таком опыте – выхода монаха из пустыни в мир города, который полон греха и являет собой мир суетный, погибающий, – для спасения этого мира подвигом юродства. В словах Симеона открывается причина выхода из пустыни в мир: «“...что за польза нам долее оставаться в этой пустыне? Послушай меня: встань и уйдем, чтобы спасти также и других. Ибо здесь мы никому, кроме себя, не приносим блага и ни от кого не получаем мзды”. И стал говорить ему такими словами Священного писания: “Никто не ищи своего, но каждый пользы другого”, и “Для всех Я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых”...» [1; 66].
Диалог Иоаннна с Симеоном важен, так как содержит указание на особенности подвига. Резонно звучат опасения Иоанна, отговаривающего Симеона от выхода в мир, полный искушений для монаха. Но он увидел, что здесь не собственная воля Симеона, а воля Бога, и он понимает, что выбор Симеона означает углубление и утяжеление подвига. Это новый и более высокий подвиг, к которому Иоанн еще не готов: «…не оставляй меня, смиренного. Ибо я не достиг еще такого совершенства, чтобы мог смеяться над миром» [1; 66]. Смирившись с расставанием, он произносит очень важные слова, которые приоткрывают особенности аскезы юродивого: «…прошу тебя, когда смеется лицо твое, да не веселится вместе и ум твой, когда осязают руки твои, да не осязает с ними вместе и душа, когда рот вкушает, да не наслаждается сердце, когда поднимаются ноги, да не нарушается в неподобной пляске покой внутри тебя, коротко сказать – что творит тело твое, да не творит душа. Но если, брат мой, Господь подлинно даровал тебе силу, чтобы при всяком телесном движении, будь то слова или поступки, ум твой и сердце твое пребывали бесстрастными и спокойными, не оскверняясь от этого и не получая ущерба, то я истинно радуюсь твоему спасению…» [1; 76]. Таким образом, Иоанн предупреждает Симеона, чтобы он хранил сердце от того, что будет делать тело перед людьми, и чтобы в этих делах не принимала участия воля, ум при всем, что совершает тело, оставался безмятежным. Иначе говоря, нужно полностью отказаться от своего тела, использовать как инструмент для совершения самых внешне абсурдных поступков. Но и тело при этом будет сохранено от греха, поскольку к нему не будет прилагаться никакой страстности, если сердце и ум будут сохранять бесстрастие. И целостность личности святого остается ненарушимой.
В ответе Симеона на это предостережение еще раз звучит подтверждение его желания уйти в мир как исполнения воли Божией, которая отвечает новому зову сердца Симеона. Дальнейший сюжет выстраивается как череда различных поступков юродивого. Причем можно даже менять их местами без ущерба для содержания, так как и мотивация, и цель их одна: все поступки святого объединены стремлением помочь людям, спасти хоть некоторых, и иначе как юродским поведением, внешне непотребным, безумным, этого, оказывается, невозможно достичь.
С. Иванов как о главной типологической черте юродивых пишет об их «агрессии против мира» [3; 99]. Но он не уточняет, против какого мира ? По всей видимости, сам исследователь исходит из уверенности в единственности мира видимого. Но и агиограф, и изображаемый им христианский юродивый мыслят в других пространственно-временных категориях. И восстает («глумится») юродивый не против мира Христова, а против мира , над которым господствует дьявол – и господствует не по праву, так как не он творил мир. Составитель жития, епископ Леонтий, исходил из христианской картины мира и историю человечества видел с точки зрения библейской истории, в соответствии с которой мир человеческий отделился от мира Божьего в «этот» и стал «земным», грешным, тленным, подверженным смерти после грехопадения. Но вместе с тем этот мир должен преобразиться, стать Христовым, потому что сотворенный Богом человек призван к святости, в чем со-работниками Богу становятся святые блаженные, так они и осознают свое призвание.
Житие утверждает, что подвиг юродства есть один из способов спасения мира. Доказывают это не сами по себе поступки юродивого, которые без их духовного смысла были бы действительно агрессией4, а результаты, плоды этих поступков, которые открывают духовные, невидимые их причины. Например, Симеон разбил кувшины с вином [1; 69], так как змея впусти- ла в них яд, таким образом он спасал от смерти людей. Или стегал колонны ремнем, предсказывая землетрясение [1; 71], или швырял в людей камни, чтобы отвести их от нападения беса [1; 75], которого он видел, в отличие от других. Или имитировал «насилие» жены кочевника [1; 69] только для того, чтобы кочевник, увидевший прозорливость Симеона (в случае с разбитыми кувшинами), перестал его почитать как святого. Или платил блудницам и часто пребывал среди них лишь для того, чтобы отвести их от греха, заплатив им не за блуд, а за воздержание! [1; 74]. А уж косоглазие девушек так прямо направлено к спасению их души, ведь они иначе «всех сириянок превзошли бы разнузданностью» [1; 76] и т. д. Нет ни одного поступка, где не было бы любви юродивого к человеку. И конечно, не личные амбиции и не самоутверждение в своей гордыне, как убежденно считает С. Иванов [3; 181], определяют поведение юродивого. При-званность (от слова «зов»), заданность Творцом такого типа служения – юродства – и есть мотивация выбора святым пути аскезы и служения Богу и людям. Первое житие этого первого «вполне» юродивого указывает на главное: духовное со-творчество человека с Богом в преображении мира.
И все же какова модель поведения юродивого? Как нам видится, основа юродского (Христа ради!) типа поведения дана в приведенной выше евангельской цитате из слов Симеона, объяснявшего свой выбор: « Для всех Я сделался всем , чтобы спасти по крайней мере некоторых...» (I Кор. 9, 22) [1; 66]. Только и эти слова апостола Павла, которыми вдохновлялись апостолы, идя на проповедь в мир, юродивый доводит до такого предела, что смысл оказывается сокрытым за его «взрывающей» мир формой поведения. И все же именно этот, если можно выразиться, метод сообщения с миром является определяющим – всем стать для всех, чтобы спасти некоторых.
Итак, подвиг юродства, явленный в этом первом житии юродивого, заключается в высшей степени смирения и совершенной – Христовой – любви к человеку . Полнота смирения юродивого проявляется в полном отказе от себя : и от разума, и от тела, и от своей воли, что дает возможность действию в нем благодати. Но смирение юродивого – «Божьего человека» – сокровенно, оно невидимо миру, поскольку все внешние их поступки говорят, казалось бы, об обратном: поступки юродивого внешне совершенно противоречат идее смирения. Как отметил первым Г. П. Федотов, подвиг юродивого парадоксален. Тип его поведения проявляется в парадоксальной форме предельного самоотречения и дерзновенности , основанной на вере , что позволяет отнести тип смирения юродивого не к «агрессивному», а к дерзновенному .
Список литературы Образ смирения в Житии Симеона Эмесского
- Византийские легенды/Отв. ред. Д. С. Лихачев; Изд. подгот. С. В. Полякова. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1972. 301 с.
- Живов В. М. Святость. Краткий словарь агиографических терминов. М.: Гнозис, 1994. 112 с.
- Иванов С. А. Блаженные похабы (культурная история юродства). М.: Языки славянских культур, 2005. 448 с.
- Ковалевский И. Юродство о Христе и Христа ради юродивые восточной и русской церкви. Репр. воспр. текста изд. 1902 г. М., 1992. 288 с.
- Кологривов Иоанн. Очерки по истории русской святости. Брюссель: Жизнь с Богом, 1961. С. 239-251.
- Панченко А. М. Древнерусское юродство//Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984. С. 72-153.
- Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М.: Московский рабочий, 1990. 269 с.
- Юрганов А. Л. Нелепое ничто, или Над чем смеялись святые Древней Руси?//Каравашкин А. В., Юрганов А. Л. Опыт исторической феноменологии. Трудный путь к очевидности. М.: Изд-во РГГУ, 2003. С. 211-290.