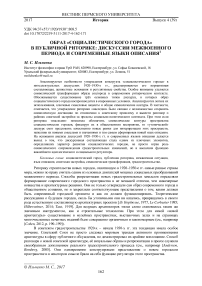Образ "социалистического города" в публичной риторике: дискуссии межвоенного периода и современные языки описания
Автор: Ильченко Михаил Сергеевич
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Ответственность интеллектуала: гуманитарная рефлексия и социальная практика
Статья в выпуске: 4 (39), 2017 года.
Бесплатный доступ
Анализируются особенности утверждения конструкта «социалистического города» в интеллектуальных дискуссиях 1920-1930-х гг., рассматриваются его нормативная составляющая, ценностные основания и регулятивные свойства. Особое внимание уделяется символической трансформации образа соцгорода в современном риторическом контексте. Обосновывается существование трёх основных типов дискурса, в которых образ социалистического города воспроизводится в современных условиях. Анализируются логика их использования, ключевые смысловые акценты и общие символические контуры. В частности, отмечается, что утверждение риторики «наследия» было связано с возможностью сохранить символическую дистанцию по отношению к советскому прошлому и вывести разговор о районах советской застройки за пределы социально-политического контекста. При этом если риторика «наследия» позволяла обозначить символические контуры пространства социалистических городов, фиксируя их в общественном восприятии, то «утопический» дискурс смог предложить качественно новые рамки для интерпретации этих пространств, наполнив их новыми смыслами и значениями и тем самым сформировав новый язык описания. На основании анализа дискуссий 1920-1930-х гг. и современных языков описания делается вывод о том, что дискурсивная составляющая стала одним из ключевых элементов, определивших характер развития социалистических городов, не просто играя роль символического сопровождения градостроительных изменений, но и выполняя функцию важнейшего идеологического и социального регулятора.
Социалистический город, публичная риторика, межвоенная ситуация, язык описания, советская застройка, символическая трансформация, градостроительство
Короткий адрес: https://sciup.org/147203832
IDR: 147203832 | УДК: 94(37+57)"1920/1930":808.5 | DOI: 10.17072/2219-3111-2017-4-162-171
Текст научной статьи Образ "социалистического города" в публичной риторике: дискуссии межвоенного периода и современные языки описания
Риторику строительства новых городов, охватившую в 1920–1930-е гг. самые разные страны мира, можно по праву считать одним из основных двигателей мощных социальных преобразований межвоенного периода. Способы репрезентации новых градостроительных замыслов определяли формирование современного городского пространства в не меньшей степени, чем инженерные новшества и архитектурные решения. Они не только утверждали сам образ современного города в общественном сознании, но и закрепляли соответствующие представления о том, каким должен быть современный городской организм и как он должен функционировать. Теоретические рассуждения о будущем городов, сколь бы утопичными они ни казались, превращались в своего рода естественную составляющую архитектурных проектов [ Ле Корбюзье , 1977, Le Corbusier 1985; Hilberseimer, 2014; Taut, 1919]. Для ведущих архитекторов эпохи слово становилось таким же значимым инструментом, как и строительные технологии. При этом для самой «новой архитектуры» существование в музейных пространствах, выставочных залах и на страницах многочисленных печатных изданий было совершенно органичным и закономерным (см., например [ Cohen, 2012, р. 190–199]).
В советском градостроительстве 1920-х – начала 1930-х гг. эта тенденция имела особое значение. Советский Союз не просто следовал мировым трендам активного проникновения архитектуры в сферу публичного обсуждения, но демонстрировал их крайнее воплощение. Способ разговора о новой советской архитектуре, её визуальные образы и репрезентации в прессе служили своеобразным дополнением реального градостроительного процесса (см., например [ Anderson, Romberg, 2005]. Они одновременно конструировали представление о новом городском пространстве и в некотором смысле брали на себя функцию регулятора этого пространства.
Характерный пример – социалистические города, один из самых амбициозных градостроительных проектов советской эпохи, реализация которого изначально демонстрировала глубокую зависимость от символического контекста и практик публичной репрезентации. Их рассмотрение в таком ракурсе предполагает решение двойной задачи. Во-первых, необходимо понять роль и функции символической репрезентации соцгородов в самой градостроительной стратегии их реализации в 1920–1930-е гг. Во-вторых, важно определить, в какой степени пространства соцгородов оказываются зависимыми от языка описания в сегодняшних условиях, когда прежние символические значения оказались утрачены вместе с развалом советской системы.
«Социалистический город» в публичной риторике 1920-1930-х гг.: конструирование образа
Проект создания «социалистических городов» представлял собой одну из самых радикальных теоретических задумок советского градостроительства и одновременно знаменовал начало одной из самых масштабных градостроительных кампаний в советской истории. Социалистические города с самого начала были вынуждены существовать в разрыве между риторикой о новых «городах будущего» и реальной градостроительной практикой, мало соотносившейся с призывами, манифестами и архитектурными программами. Ситуацию несоответствия между «декларируемым» и «реальным» можно считать типичной для всей системы социального строительства первых советских десятилетий. Однако для социалистических городов она имела особое значение. Само понятие соцгорода возникло в конце 1920-х гг. как сугубо теоретический конструкт, не имевший аналогов в архитектурной практике. Безусловно, в ходе создания проектов социалистического города учитывались как многочисленные концептуальные наработки зарубежных архитекторов, так и реальный опыт градостроительства европейских стран (см., например [ Кириченко 2015; Конышева 2015]). Однако в советском контексте все эти заимствования накладывались друг на друга и, как следствие, приобретали новое звучание и нередко новое практическое применение.
Проект соцгорода являлся предметом оживлённых обсуждений с участием специалистов и широкой публики, разделял дискутировавшие стороны на «лагеря», выступал ориентиром в составлении многочисленных планов и проектов, формировал профессиональные стимулы, определял мировоззрение молодого поколения архитекторов, при этом в реальной практике градостроительства долгое время существовал скорее в виде желанной цели, чем чёткого механизма организации поселения. В этом смысле знаменитая дискуссия «о социалистическом расселении», широко развернувшаяся на страницах советской печати в 1929–1930 гг. (см., например [ Охитович, 1930a, 1930b; Барщ, Гинзбург, 1930; Барщ и др., 1930; Сабсович, 1930; Пузис, 1930; Верезубов, 1930; Заславский, 1930], не столько служила информационным сопровождением строительства новых поселений, сколько утверждала сам образ нового социалистического города, определяя его функциональную роль и символическое значение [ Меерович и др., 2011; Тимофеев, 2016].
В сущности, риторика и способ разговора о социалистических городах выполняли функцию полноценного регулятора, они задавали символические границы новых территорий, формировали образ места, закрепляли в восприятии новые пространственные структуры. Декларации, манифесты, программные статьи, официальные речи, стенограммы выступлений, призывы и обращения – всё это не просто было символическим довеском к процессу строительства, но представляло собой одну из форм существования новых городских образований. Не случайно поселения, которые в реальности находились либо на начальной стадии строительства, либо лишь намечались в проекте нередко подавались на страницах печати как уже существующие и функционирующие городские организмы (см., например [СССР на стройке, 1932; Вiкторов, 1930; О социалистических городах, 1934]). Во многом именно это определяло характер их восприятия и пространственный образ.
Социалистический город утверждался мифологией идеального советского градостроительного проекта, который был призван демонстрировать победу над природой и освоение «пустого пространства», всесилие человеческой воли и преодоление времени, строительство цивилизации «без прошлого» и закладку новых традиций (см., например [ Черня, 1930; О социалистических городах, 1934; Попов, 1934; Гречухо, 1933]. Именно в этом нарративе соцгород обретал свой пространственный облик, чёткую структуру и набор функций, и именно к этому нарративу он оказывался изначально привязан символически.
В реальности строительство новых поселений под знаком возведения соцгородов следовало различным траекториям, будучи зависимым от конкретных локальных условий и имеющихся ресурсов; оно нередко осуществлялось вне всякого плана и с трудом сводилось к каким-либо единым стандартам [ Попов, 1933; Ефремов, 1933; Меерович и др., 2011, с.119–161; Конышева, Меерович , 2012; Ильченко, 2016]. Все эти многообразные опыты скреплял воедино символический язык описания, который придавал идее соцгорода цельность и стройность. При этом для каждого периода советской эпохи этот язык предлагал свою идеальную картинку. Если для 1920–1930-х гг. соцгород был пространством будущего, созидаемым вопреки обстоятельствам, то в послевоенный период он превращался в цветущий и заливаемый светом «город-сад» (см. [ Косенкова, 2009]), а в 1960–1970-е гг. воплощал мечту о новом многоэтажном советском городе (см., например [Свердловск, 1973, с. 84]). Впрочем, с распадом советской системы все эти символы утрачивают своё значение и соцгорода оказываются лишёнными того, что изначально определяло их территориальную идентичность и сущностные черты.
Соцгород в условиях символической трансформации: риторика «наследия»
С падением советского строя соцгорода утрачивают не просто функциональное и идеологическое значение. Утрата прежних символов означала для них потерю сложившихся форм репрезентации и языка описания как такового, т.е., в сущности, символическое «исчезновение». Как следствие, пространство социалистических городов оказывалось в довольно специфической ситуации. В советское время их положение было двойственным: соцгорода, с одной стороны, воспринимались в качестве самостоятельных городских организмов, с другой – были территориально привязаны к крупным индустриальным центрам. В постсоветских условиях такая особенность оборачивалась крайней неопределённостью их положения. С утратой прежней функции идентичность соцгородов оказывалась размытой, и огромные пространства, некогда символизировавшие передовые градостроительные идеи и наступление новой эпохи,превращались в простые участки территории, типичные «отдалённые районы» – периферию крупных городских агломераций. Упадок производства и исчезновение скрепляющей силы предприятия как символического центра превращало территории соцгородов в новые городские окраины, известность которых для широкой публики в новых условиях, как правило, оказывалась связана лишь с неблагоприятной криминальной обстановкой.
Вместе с тем и по пространственной логике, и по внешним очертаниям, и по характеру застройки пространства социалистических городов достаточно сильно отличались от других городских территорий и потому продолжали сохранять специфику.
Это отличие было особенно ощутимым на символическом уровне. Соцгорода не имели никакой другой истории, кроме советской, и потому не позволяли апеллировать к дореволюционному прошлому в поисках новых символов и образов. Само их пространство оказывалось герметичным, как бы замкнутым в себе, что затрудняло возможность вписать его в другие смысловые контексты. Вдобавок к этому на общем фоне «отказа» от советского прошлого «советское» в нём вовсе не выступало фигурой яростного отрицания, как это происходило, например, с насыщенными советской символикой центральными городскими площадями. Пространство соцгородов вообще слабо ассоциировалось с политикой и идеологией. В массовом восприятии оно олицетворяло пространство повседневности, быта и того жизненного уклада, утрата которого сопровождалась скорее ностальгическим переживанием, чем резким отторжением или иронией.
В таких условиях новой символической формой репрезентации этих территорий мог стать язык описания, воспроизводство которого позволило бы, во-первых, отстраниться от ближайшего исторического прошлого и сохранить по отношению к нему определённую символическую дистанцию, во-вторых, выйти за пределы социально-политического контекста их интерпретации или, по крайней мере, существенно его смягчить.
Именно эту роль сыграла риторика «наследия», в рамках которой был предложен взгляд на советскую застройку соцгородов как на пространство, обладающее особой эстетической, исторической и архитектурной ценностью. Так, внезапно обнаружилось, что серые и внешне малопримечательные сооружения, формирующие облик не слишком благополучных районов промышленных городов, обладают особой архитектурной значимостью, претендуют на присвоение статуса памятников наряду со средневековыми церквями и ансамблями классицизма и имеют все шансы быть вписанными в «общемировой культурный контекст». В массовом восприятии это приводило к столкновению двух несовместимых реальностей – повседневного, обыденного, неприметного, с одной стороны, и общезначимого, ценного, относимого к культурному достоянию – с другой.
Этот эффект был особенно заметным, когда пространство соцгородов начинали рассматривать в контексте мировых градостроительных и художественных тенденций. Основным толчком этому послужила серия исследовательских, художественных и образовательных проектов, связанных с изучением следов работы зарубежных специалистов, участвовавших в проектировании и строительстве социалистических городов в самых разных уголках Советского Союза в 1920– 1930-е годы. Прежде всего, это касалось выходцев знаменитой школы «Баухауз» (см., например[Bauhaus на Урале, 2008, 2010; Общее…, 2010]. При этом основное воздействие на массовое восприятие оказывали не столько конкретные исторические свидетельства и реальная значимость их работы, сколько сам факт символической причастности бренда «Баухауз» к самым обычным для внешнего взгляда районам советской застройки. В этом смысле показательна и типична реакция на обнаруженные в архивах свидетельства одного из выходцев из Баухауза – Белы Шефлера в соцгороде Уралмаша. В начале 2000-х гг. осознание этой связи производило мощный эмоциональный эффект: «На нашем Уралмаше – архитектор из "Баухауза"»?, «Чтобы выпускник прославленной школы работал на Уралмаше!..» (см. [ Расторгуев , 2011, с.206]).
Это удивление и ошеломление имело большое значение. Именно оно помогало высвободить пространство соцгорода из привычного контекста восприятия. Перед широкой аудиторией в совершенно новом свете представали огромные пространства жилых районов, которые ранее ассоциировались исключительно с «советским» и «индустриальным». В сущности, риторика «наследия» способствовала их символическому «открытию». «Соцгород в Новокузнецке – это довольно уникальное и интересное место, о существовании которого порой не догадываются даже люди, живущие рядом… Собственно, если бы не современный проект "Соцгород – город мечты", то о месте этом до сих пор знали бы только глубокие старожилы да люди, интересующиеся историей города…» – ситуация, описываемая в блоге одного из краеведов и активистов Новокузнецка, является вполне характерной для нового восприятия привычных пространств советской застройки [Прогулки по Новокузнецку, 2014].
Новая риторика быстро усваивалась в постсоветских условиях – кварталы соцгородов превращались в «памятники», «культурное достояние» и «объекты охраны». Теперь они представляли собой не просто «исторические образцы стиля», а часть «мирового наследия». Отдельные сооружения и целые районы застройки соцгородов подробно описывались, каталогизировались, попадали в различные списки и реестры по охране. В сущности, именно эта риторика и открывала пространства соцгородов для широкой публики, сделав возможным сам разговор о них на доступном языке.
Между тем возможности дискурса «наследия» при ближайшем рассмотрении оказываются весьма ограниченными. Логика, которая лежит в его основе, проста: если объект представляет собой культурную, историческую, художественную или какую-либо иную ценность, то эта ценность должна быть обоснована и подтверждена закреплением за этим объектом соответствующего статуса. В этом смысле наиболее полно она реализуется в политике «музеефикации» прошлого – своего рода маркировки градостроительных комплексов по их соответствию конкретному стилю, автору, эпохе и, как следствие, в превращении их в «памятники» и «артефакты». Не случайно популярность в дискуссиях вокруг градостроительного наследия соцгородов приобрели такие риторические фигуры, как «музей под открытым небом», «город-памятник», «коллекция памятников конструктивизма», «заповедник авангарда» и пр.
Впрочем, совсем скоро стало очевидно, что простое объявление исторической части соцгородов «музеями» и внесение новых зданий в «списки охраны» не разрешают проблемы, а лишь позволяют сделать шаг на пути к её формулировке: районы с многотысячным населением в условиях интенсивного городского развития требовали новых интерпретаций и способов осмысления.
От «места утопии» к «культурному пространству»
Риторика «наследия» давала возможность обозначить символические контуры пространства социалистических городов, фиксировать их в общественном восприятии, однако в смысловом плане предлагала довольно узкие рамки для их интерпретации. Градостроительные эксперименты, принадлежность к передовым художественным течениям, особая эстетика – всё это увлекало и интриговало, но скорее лишь намекало на то, что за отдельными сооружениями и кварталами старой советской застройки скрывается нечто большее, отсылающее к гораздо более глубинным смыслам, которые в существующем языке описания не могут быть раскрыты.
По мере возрастания публичного интереса к советской архитектуре и градостроительству 1920–1930-х гг. пространства бывших социалистических городов начинают всё чаще попадать в фокус внимания в проектах, где основным предметом рассмотрения становятся не столько их стилистические, эстетические или градостроительные особенности, сколько само время, которое они символизируют. В фотографиях на многочисленных выставках, изображениях арт-инсталляций и сюжетах на телевидении за отдельными сооружениями и кварталами советской застройки постепенно проступает эпоха с её надеждами, ожиданиями и ощущением стремительных перемен. Старые дворы, комплексы зданий и отдельные сооружения соцгородов позволяют заглянуть в прошлое и поймать ощущение эпохи строительства «нового мира». И совершенно неважно, что этот мир так и не был построен, а сама эпоха неожиданно оборвалась. Именно в этом и заключается особое очарование – говорить о будущем, которое не наступило. Так постепенно формируется дискурс «нереализованной утопии», предлагающий качественно новый взгляд на пространство соцгородов.
«Соцгород – город мечты» в Новокузнецке, «Затерянный город будущего» в Запорожье, «Соцгород – автозаводская утопия» в Нижнем Новгороде – в самой стилистике и подаче этих художественных и образовательных проектов читается новый посыл: основная ценность, смысловое содержание и притягательность районов советской застройки 1920–1930-х гг.заключены не в сохранившихся зданиях и кварталах, а в их скрытой задумке и устремлении. То есть в том, чему в итоге не суждено было реализоваться (см., например [Соцгород – город мечты, 2013; Затерянный город будущего, 2011]). А потому пространство социалистических городов привлекательно уже не столько необычной градостроительной структурой и особенностями авангардной застройки, сколько свидетельствами принадлежности к эпохе – символами и метками времени. Предмет изучения, таким образом, становится ещё и источником вдохновения. Ведь наряду с пространством «археологического» поиска районы советской застройки превращаются в пространство фантазии, игры воображения, сопровождаемой нотками особого романтического переживания.
В 2010 г. территория двух социалистических городов – Автозавода в Нижнем Новгороде и Уралмаша в Екатеринбурге – стала местом реализации художественного проекта «Коммунальный авангард» (см. [Коммунальный авангард, 2011]). В его рамках оба соцгорода превратились в пространство прогулок, творческих исследований и созерцаний. В предисловии специально изданного каталога проекта впечатление, полученное художниками от посещения соцгорода Уралмаша, в частности, описывалось так: «Сегодня Уралмаш – завораживающая руина, где сложно отличить следы реального и утопического. Данная статья призвана помочь отыскать основные объекты соцгорода <…> но вам, уважаемый читатель, придётся соблюдать одно базовое правило: добавляйте слово «возможно» к каждой нашей рекомендации. Например, на правой стороне улицы вы [возможно!] увидите то-то или вам [возможно!] стоит свернуть в такой-то переулок. Возможно, вы отправляетесь на прогулку по месту, которого не существует, но тени и отзвуки которого вам, возможно, удастся отыскать» [Там же, с.35].
Уралмаш здесь – пространство не просто созерцаемое, но созидаемое, конструируемое воображением. «Остатки советской цивилизации» в виде полуразрушенных зданий – не столько предмет археологического изучения, сколько повод помыслить «неслучившееся будущее». Каждая постройка – знак и символ. Потому в описании «руин и развалин» прочитывается скорее скрытое наслаждение образом, чем беспокойство за сохранность и стремление определить уникальность сооружения.
«Утопическая» риторика позволяла расширить границы самого предмета рассмотрения – вместо «стиля» и «объекта охраны» им становилось время, его дух и атмосфера, а также предлагала новые возможности интерпретации – художественные образы оказывались не менее значимыми, чем поиск новых исторических свидетельств. Но, пожалуй, самое главное – такая риторика добавляла в разговор о соцгородах новую сентиментальную тональность. Старые кварталы, дворы и сооружения становились предметом переживания вместе с проступающим за ними советским прошлым.
В сущности, именно дискурс «нереализованной утопии» формировал образ тех соцгородов, которые сегодня вновь превратились в предмет интереса и живых дискуссий в среде городской общественности, интеллектуалов и урбанистов. Именно в таком ракурсе пространство соцгородов наполнялось совершенно новыми смыслами – все элементы исторической застройки, отдельные сооружения, самые мелкие детали и артефакты, стали восприниматься частью грандиозного проекта, нереализованного, незавершённого, но от того ещё более привлекательного. В процессе такого смыслового конструирования районы соцгородов вновь обретали цельность, символические границы и полноценный язык описания, а у зрителя складывалась особая оптика их восприятия.
Впрочем, несмотря на все различия, и риторика «наследия», и риторика «утопии» оказываются схожи в одном принципиальном моменте – они не дают возможности помыслить пространство соцгородов настоящим. В риторике «наследия» соцгород – это прежде всего памятник (исторический, градостроительный, художественный), и потому он принадлежат к некоему вневременному пространству, которое являет собой своего рода параллельную реальность и никак не связано с привычным течением жизни. Дискурс «утопии» позволяет поместить пространство соцгородов в некое абстрактное будущее, которое никогда не наступит, и ассоциировать с надеждой, которой не суждено воплотиться в жизнь.
Очевидно, что для районов с многотысячным населением и огромной территорией одним из ключевых вызовов оказывается необходимость постепенной интеграции в современное городское пространство, а значит, и выработка соответствующего символического языка. Поэтому неудивительно, что в публичной риторике последнего времени всё чаще и отчётливее стала звучать мысль о ревитализации и «оживлении» территорий соцгородов. При этом значительная часть реализуемых в них проектов оказалась ориентирована на новые культурные инициативы в попытке найти новые формы и функционал для старых зданий, архитектурных комплексов и целых районов.
Территория соцгородов всё чаще стала представать то «новым культурным пространством», то местом «новых культурных практик», то территорией «культурного эксперимента» или даже «культурной революции» (см., например [Культурная революция, 2016]). Проводником этого явились многочисленные фестивали, арт-проекты, крупные выставки (см., например [«Исторические локации», 2016; Новокузнецкая «Неделя уличного искусства», 2015]). Складывающийся в результате образ нового, развивающегося, включённого в современные городские ритмы соцгорода неизбежно мыслится, формулируется и репрезентируется в категориях «культурного развития», «культурного потенциала» и «культурного пространства».
Дискуссии о культурном развитии соцгородов можно было бы считать ещё одной вариацией на темы «идеального будущего» и «новой утопии», если бы «культурный» дискурс не стал разделяем и воспроизводим в официальной публичной риторике. Идеи создания «культурного кластера» и эффективного использования уникального «культурного ресурса» довольно быстро проникли и прочно закрепились в презентациях, концепциях и документах, обсуждаемых представителями административных структур, девелоперских компаний и бизнес-сообщества. Более того, многие проблемы, связанные с развитием территорий соцгородов: сохранение ряда архитектурных памятников, использование общественных пространств, новое освоение зелёных зон, были впервые публично озвучены именно в такой форме подачи.
В сущности, «культурная» риторика стала первым способом разговора о будущем развития соцгородов в форме диалога между общественностью, властью и бизнесом. Городская общественность и интеллектуалы оказались способны чётко изложить свои проекты и сформулировать предложения по работе с наследием авангарда, апеллируя к «культурным практикам» и «творческим индустриям», а власть оказалась готовой принять их именно в такой подаче и на таком языке.
Можно предположить, что «культурный» дискурс станет лишь промежуточной формой разговора о будущем соцгородов, а его трансформация вскоре приведёт к появлению нового языка описания. Но уже сейчас очевидно, что сам факт публичного обсуждения развития этих территорий знаменует возможность их важной трансформации – постепенного обретения ими новых символических границ, способов репрезентации и места в новой меняющейся городской географии. В разных случаях эти тенденции оказываются выражены по-разному, но все они подтверждают один тезис: будучи в существенной степени сформированными символическим языком и формами репрезентации в 1920–1930-е гг., пространства соцгородов остаются зависимыми и чувствительными к изменениям символических значений и языков описания до сих пор.
Список литературы Образ "социалистического города" в публичной риторике: дискуссии межвоенного периода и современные языки описания
- Барщ М.О., Гинзбург М.Я. Зеленый город//Современная архитектура. 1930. №1-2. С. 20-37.
- Барщ М., Владимиров В., Охитович М., Соколов Н. Магнитогорье: К проблеме генплана//Современная архитектура. 1930. №1-2. С. 38-56.
- Bauhaus на Урале. От Соликамска до Орска: Матер. междунар. науч. конф., 12-16 ноября 2007 г., Екатеринбург/сост.: Л.И. Токменинова, А. Фольперт; представительство Фонда Розы Люксембург в Российской Федерации, Урал. гос. архитект.-худ. акад. Екатеринбург: Вебстер, 2008. 175 с.
- Bauhaus на Урале. Сохранение наследия: Матер. междунар. науч. семинара, 22-24 августа 2008 г., Екатеринбург/науч. ред. Л.И. Токменинова. Екатеринбург: Вебстер, 2010. 154 с.
- Верезубов И.К. К вопросу о проблеме социалистического города//Строительство Москвы. 1930. №1. С. 13-16.
- Вiкторов Б. Соцiялicтичнi мiста Донбасу. Харкiв: Шляхи Iндустрiялiзацiï, 1930. 22 с.
- Гречухо В. За чёткий архитектурный облик социалистических городов//За социалистическую реконструкцию городов. 1933. №1. С. 9-10.
- Ефремов Н.Д. О нормах планировки городов//За социалистическую реконструкцию городов. 1933. №2. С. 10-12.
- Заславский А. Против искривления классовой линии в строительстве социалистических городов//Строительство Москвы. 1930. №1. С. 24-25.
- Затерянный город будущего: Анонс выставки «Большое Запорожье 1930. Затерянный город будущего». 2011.URL: http://afisha.zp.ua/vystavki/zateryannyy-gorod-buduschego_1304.html (дата обращения: 01.07.2017).
- Ильченко М.С. Опыт Уралмаша в архитектуре советского авангарда: градостроительный эксперимент 1920-1930-х гг. // Quaestio Rossica. 2016. Т. 4. №3. С. 55-71.
- «Исторические локации»: в запорожском Соцгороде прошёл второй фестиваль, 23 мая 2016 г. URL:http://reporter-ua.com/2016/05/23/292033_istoricheskie-lokacii-v-kruglom-dome-zaporozhe-proshel-vtoroy-festival-o-nashem (дата обращения: 01.07.2017).
- Кириченко Е. От доходных домов к квартирным домам и ансамблям соцгородов//Массовое жилище как объект творчества. Роль социальной инженерии и художественных идей в проектировании жилой среды. Опыт XX и проблемы XXI в./отв. ред. Т.Г. Малинина; НИИ теории и истории изобраз. искусств при Рос. акад. художеств, М.: БуксМАрт. 2015. С. 34-43.
- Коммунальный авангард: каталог-путеводитель/ред.-сост. Е. Белова, А. Савицкая. Нижний Новгород, 2011. 58 с.
- Конышева Е.В. «Новый Франкфурт» (1925-1930) и «социалистические города» первых пятилеток: трансформация опыта европейских архитекторов//Хан-Магомедовские чтения. М.; СПб.: Коло, 2015. C. 253-268.
- Конышева Е.В., Меерович М.Г. Эрнст Май и проектирование соцгородов в годы первых пятилеток (на примере Магнитогорска). М.: ЛЕНАНД, 2012. 224 c.
- Косенкова Ю.Л. Советский город 1940-х -первой половины 1950-х гг.: От творческих поисков к практике строительства. М.: Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 440 с.
- Культурная революция на районе. Уралмаш -памятник советской истории или участок тотальной застройки. 2016. URL:http://momenty.org/city/i164573 (дата обращения: 01.07.2017).
- Ле Корбюзье. Архитектура XX в. М.: Прогресс, 1977. 303 с.
- Меерович М.Г., Конышева Е.В., Хмельницкий Д.С. Кладбище соцгородов: градостроительная политика в СССР (1928-1932 гг.). М.: РОССПЭН, 2011. 270 с.
- Новокузнецкая «Неделя уличного искусства» получила признание, 8 сентября 2015. URL: https://www.city-n.ru/view/364527.html (дата обращения: 01.07.2017).
- О социалистических городах//За социалистическую реконструкцию городов. 1934. №5. С. 1-6.
- Общее: Буклет выставочного проекта «1920-1930. Баухаус. Авангард. Запорожье, Харьков, Дессау, Франкфурт-на-Майне». Запорожье, 2010. 12 с.
- Охитович М. Заметки по теории расселения//Современная архитектура. 1930a. №1-2. С. 7-16.
- Охитович М. Отчего гибнет город?//Строительство Москвы. 1930b. №1. С. 9-11.
- Попов Ф. К вопросу о планировке городов//За социалистическую реконструкцию городов. 1933. №5. С. 14-16.
- Попов Ф. Генеральный проект Большого Запорожья//За социалистическую реконструкцию городов. 1934. №6. С. 11-15.
- Прогулки по Новокузнецку. Соцгород (Хитарова. Энтузиастов)//Запись в блоге nemologos, 18 июля 2014 г. URL: http:nemologos.livejournal.com/74407.html (дата обращения: 01.07.2017).
- Пузис Г. О методах исчисления населения в планировке населенных мест//Советская архитектура. 1931. №3. С.4-7.
- Расторгуев А. Наследие эксперимента. Из истории архитектурного авангарда на Урале // Урал. 2011. №8. С. 205-223.
- Сабсович Л.М. Новые пути в строительстве городов//Строительство Москвы. 1930. №1. С.3-5.
- СССР на стройке. 1932. №7, июль.
- Свердловск: Экскурсии без экскурсовода. Свердловск: Средне-Урал. кн. изд-во, 1973. 104 c.
- Соцгород -город мечты. Репортаж о проекте 17.06.2013. URL: http://www.tvn-tv.ru/news/mountains_economy/sotsgorod_gorod_mechty.html (дата обращения: 01.07.2017).
- Тимофеев М. От «красного Манчестера» к «красному Диснейленду»: конструктивистская архитектура и стратегии позиционирования города Иваново//Quaestio Rossica. 2016. Т. 4, №3. С. 72-92.
- Черня И. Города социализма//Революция и культура.1930. №1. С. 11-16.
- Anderson R., Romberg K. Architecturein Print. Design and Debate in the Soviet Union 1919-1935. Wallach Art Gallery, 2005. 78 p.
- Cohen J.-L. The Future of Architecture. Since 1889. Phaidon, 2012. 528 p.
- Hilberseimer L. Metropolisarchitecture/еd. by R. Anderson. Columbia Books on Architecture and the City, 2014. 368 p.
- Le Corbusier. Towards a New Architecture. Dover Publication, 1985. 320 p.
- Taut B. Die Stadtkrone. Eugen Diederichs Verlag in Jena, 1919/англ. перевод по: Taut B. The City Crown. URL: http://socks-studio.com/2013/09/28/bruno-taut-the-city-crown-1919/(дата обращения: 01.07.2017).