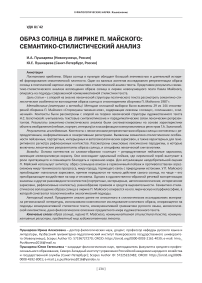Образ солнца в лирике П. Майского: семантико-стилистический анализ
Автор: Пушкарева И.А., Пушкарева Ю.Е.
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филологические науки. Языкознание
Статья в выпуске: 4 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Образ солнца в культуре обладает большой значимостью и длительной историей формирования семантической плотности. Один из важных аспектов исследования репрезентации образа солнца в поэтической картине мира - семантико-стилистический анализ текста. Представим результаты семантико-стилистического анализа воплощения образа солнца в лирике новокузнецкого поэта Павла Майского, опираясь на подходы современной коммуникативной стилистики текста. Цель статьи - с опорой на анализ лексической структуры поэтического текста рассмотреть семантико-стилистические особенности воплощения образа солнца в стихотворениях сборника П. Майского 1987 г. Методология (материал и методы). Методом сплошной выборки были выявлены 29 из 144 стихотворений сборника П. Майского «Сторонушка таежная моя», содержащие лексемы «солнце», «солнышко», «солнечный». Контексты были рассмотрены с опорой на теорию лексической структуры художественного текста Н.С. Болотновой: учитывались текстовые синтагматические и парадигматические связи лексических репрезентантов. Результаты семантико-стилистического анализа были систематизированы на основе характеристики объекта изображения (пейзаж, портрет, интерьер) и классификации коммуникативных регистров Г.А. Золотовой. Результаты исследования. Контексты с лексическими репрезентантами образа солнца соотнесены с репродуктивным, информативным и генеритивным регистрами. Выявлены семантико-стилистические особенности пейзажных, портретных, интерьерных и автопсихологических зарисовок, а также характерных для генеритивного регистра рефлексивных контекстов. Рассмотрены смысловые лексические парадигмы, в которые включены лексические репрезентанты образа солнца, и специфика лексической синтагматики.
Образ солнца, лирика п. майского, коммуникативная стилистика текста, коммуникативные регистры, предметный мир художественного текста
Короткий адрес: https://sciup.org/144163329
IDR: 144163329 | УДК: 81?42
Текст научной статьи Образ солнца в лирике П. Майского: семантико-стилистический анализ
Пушкарева Юлия Евгеньевна - кандидат филологических наук, преподаватель факультета среднего профессионального образования, Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (Санкт-Петербург); Scopus Author ID: 57225222482; ORCID: ; е-mail:
П остановка проблемы. Образ солнца в культуре обладает большой значимостью и длительной историей формирования семантической плотности. В.Н. Топоров относит «нарастание роли солярных мифов (в частности, по сравнению с лунарными и другими астральными) к позднейшим этапам мифологии»1. В современных филологических исследованиях представлены как обобщенная характеристика образа солнца в литературе [Эпштейн, 2007, с. 154–155; Демченко, 2019], так и анализ в аспекте идиостиля, при этом рассматриваются поэтические [Колокольцева, 2012; Каратанова, 2018; Папшева, Голубцова, Матвеева, 2022; Пап-шева, Матвеева, Голубцова, 2023] и прозаические [Ди Сяося, 2013; Чжу Чжисюе, 2019] тексты, большое внимание уделяется лирике Серебряного века, особо отмечается поэзия К. Бальмонта [Эпштейн, 2007, с. 261; Колокольцева, 2012; Дзыга, 2011]. В филологических трудах встречаем опыты сопоставления семантики образа-символа солнца в поэтическом и прозаическом текстах [Дзыга, 2011]. Анализ образа солнца, основанный на подходах лингвокультурологии и лингвоконцептологии, позволяет рассмотреть репрезентацию образа в русской языковой картине мира и в поэтической картине мира [Заикина, 2012; Чжу Чжисюе, 2019]. Один из важных аспектов исследования репрезентации образа солнца в поэтической картине мира - семантико-стилистический анализ текста. Представим результаты семантико-стилистического анализа воплощения образа солнца в лирике новокузнецкого поэта Павла Майского, опираясь на подходы современной коммуникативной стилистики текста (ранее был предпринят опыт семантико-стилистического анализа лирики другого новокузнецкого поэта – Александра Раевского [Пушкарева, Пушкарева, 2024]).
Для творчества Павла Майского образ солнца является ключевым. Павел Николаевич Майский (Мертвецов) – летний поэт, хотя в его творчестве рассматриваемый образ соотносится со всеми временами года: его лексический репрезентант вынесен в заглавие сборника, первым опубликованного в издательстве «Советский писатель» – «Солнечная деляна» (1979), семантика солнца имплицитно содержится в заглавии второго сборника, выпущенного тем же издательством, - «Ясный полдень» (1988)2.
Цель статьи - с опорой на анализ лексической структуры поэтического текста рассмотреть семантико-стилистические особенности воплощения образа солнца в стихотворениях, входящих в сборник П. Майского «Сторонушка таежная моя» (1987)3, опубликованный региональным издательством.
Методология (материал и методы). Методом сплошной выборки были выявлены стихотворения сборника, содержащие лексемы «солнце», «солнышко», «солнечный»: они включены в лексическую структуру примерно пятой части всех текстов (29 из 144). Контексты были рассмотрены с опорой на теорию лексической структуры художественного текста Н.С. Болотновой [Болот-нова, 1994; 2019]: учитывались текстовые синтагматические и парадигматические связи лексических репрезентантов. Результаты семантико-стилистического анализа были систематизированы на основе характеристики объекта изображения (пейзаж, портрет, интерьер) и классификации коммуникативных регистров Г.А. Золотовой: поэтические зарисовки, эксплицирующие образ солнца, были соотнесены с предметным миром художественного текста и тремя коммуникативными регистрами - репродуктивным, информативным, генеритивным (см. о них подробнее: [Золотова, Онипенко, Сидорова, 2004, с. 29–30]).
Интерпретация слова-образа осуществлялась на основе подходов аксиологической лингвистики [Арутюнова, 1984; Кушнерук, 2024, с. 449–451] и стилистических работ о категории оценки в тексте, в которых подчеркнуто, что
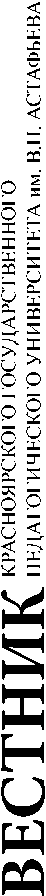
«подлинное понимание оценочного значения той или иной языковой единицы в художественном тексте возможно только в контексте художественного целого»4 (см. также о роли категории тональности при изучении текста в рамках функциональной стилистики [Матвеева, 2024]).
Результаты исследования. Для контекстов П. Майского с лексическими репрезентантами образа солнца характерна манера зарисовки – выразительного и лаконичного воссоздания картины. По соотнесенности с коммуникативным регистром разграничим зарисовки репродуктивные и информативные. Для генеритивного регистра характерны не только зарисовки, но и рефлексивные контексты.
В репродуктивных зарисовках , преобладающих у П. Майского, образ солнца воссоздается как что-то непосредственно наблюдаемое в данный момент. Такие зарисовки можно подразделить на пейзажные, портретные и интерьерные.
Основаконтекстовсословом-образом «<солнце» - пейзажные зарисовки, имеющие мелиоративную окраску. Они воссоздают идеальный пейзаж, где лирический герой выступает в роли чувствующего и сознающего благодать и гармонию мира. М.Н. Эпштейн рассматривает образ солнца в русской поэзии именно в связи с идеальным пейзажем [Эпштейн, 2007, с. 154–155]. У П. Майского преобладают глагольные зарисовки, причем передаются не только действия самого солнца, но чаще – его преображающее воздействие на мир и человека. В первом случае образ солнца может соотноситься с течением времени суток, когда момент воспринимается как часть потока времени, в котором есть предшествующее и последующее, или же передавать состояние мира в данный момент: Солнце за гору опускалось. / Набегал ветерок на плес. / И полуночная усталость / Затекала в стволы берез («Вечером, у костра»5, с. 166); Уж ночь затекала в лощинки / И солнце катилось с небес, / Когда по замшелой тропинке / Вошел я в сверкающий лес! («Уж ночь затекала в лощинки...», с. 108); А день был зябким. Жухлая трава / Под инеем лежала до полудня. / И солнце взобралось на перевал, / Когда уже туман густел по лугу / И тени голых лиственниц в реке / От берега до берега лежали («Хозяин тайги», с. 110); Мороз щипался. / Солнышко смеялось. / Воскресная охота состоялась! («Воскресная охота», с. 127).
Во втором случае, когда передается преображающее воздействие солнца на человека и мир, контексты отличаются высокой экспрессивностью: Как здесь светло! Как радостно вокруг! / И, нагоняя облака под вечер, / Прикосновеньем теплых детских рук / Июльский ветерок ласкает плечи, / И жаром сосен веет тишина, / И ослепляет солнца свет высокий… / А за рекой прозрачная луна / Уже видна на голубом востоке («Тайга в цвету…», с. 77); Красота какая на покосе! / Рушится таежная трава… / От цветов, от солнца и от сосен / Радостно кружится голова! / Набежала тучка в небе синем, / Смолкло все… И толком не понять: / Или тишина звенит так сильно, / Или то кузнечики звенят («Красота какая на покосе…», с. 107); Тихая поздняя осень. / Первый ночной снегопад. / На запорошенной просеке / Уром чернеет тропа. / В полдень искрятся под солнышком / Листья на мокрой ольхе/И стрекоза полусонная / Греется на лопухе («Тихая поздняя осень.», с. 82); А вчера ручейки деловитые / Осыпали сырые снега / И, гирляндами хмеля увитая, / Ликовала под солнцем тайга! («Лес какой-то сегодня нерадостный…», с. 120); И солнцем залита долина / Шумливой, праздничной реки… («Сошли высокие туманы…», с. 137); К дому путь грибника не торопок, / Гаснет лучик рассветной звезды, / Да слетают испуганно с тропок / Голубые от солнца дрозды! («На заре, как весна отволнуется…», с. 180).
Глагольная манера создания образа солнца в целом характерна для П. Майского и проявляется в контекстах с различными коммуникативными регистрами. Так, имена существительные
«солнце», «солнышко» соотносятся с глаголами золотило (с. 9), улыбалось (с. 58), пекло (с. 60), ослепляет (с. 77), прыгало (с. 74), садится (с. 96), катилось (с. 108), взобралось (с. 110), вставало (с. 122), смеялось (с. 127), опускалось (с. 166).
Значительно реже глагольной используется номинативная манера, например: День солнечный… Костры таежных трав, / Озер укромных сказочная праздность… («День солнечный…», с. 136). Экспрессивность позволяет сделать акцент на результате воздействия солнца и передается разнообразными стилистическими приемами. Так, в приведенных контекстах мы встречаем аллитерации, эпитеты, метафоры, апосиопезу, синтаксический параллелизм, хиазм. Отметим неоднократное использование восклицательных предложений, передающих восторг лирического героя, и конструкций с однородностью и одноструктурностью (ряды однородных членов, сложносочиненные предложения с соединительными отношениями и значением одновременности, бессоюзные сложные предложения однородного состава, одноструктурные предложения или предикативные части). Такой прием «вписывает» образ солнца в гармоничную симфонию мира, где звучат другие «голоса» – ветра, деревьев, травы, цветов, озер, ночи, мороза и др. Создаются смысловые лексические парадигмы со связью пересечения, актуализирующие интегральный смысл единства мира природы при его бесконечном разнообразии. Усиливается подобный смысловой нюанс с помощью приема апосиопезы и использования соединительного союза и .
П. Майский предпочитает изображать словом мир родной природы и солнце как его благодатную часть. С этой точки зрения можно выделить нетипичные пейзажи. Например, пейзаж без солнца, где в соответствии с мифологическими традициями противопоставлены солнце и луна: А с утра туманы до полудня, / Солнышка на небе не найти («Этим летом в Малышевской балке...», с. 161). Или экзотический южный пейзаж, где солнце не радующее и ласкающее, а палящее: У берегов арыка сонного / Сомы жируют в камышах, / И обжигающее солнце / Клонится долу не спеша… / Не думалось, что может статься, / А все же довелось и мне / От солнца летнего спасаться / В забытой богом чайхане… («Чаепитие в Янгиюле», с. 156).
Отметим случай включения городского пейзажа. В контексте, где звучит экологическая тема, актуализирована пейоративная окраска, имеющая телеологическую и этическую природу: Уже панельные дома / Отверзли форточки-оконца / И хлорэтановый туман / Позастил розовое солнце («Март в Новокузнецке», с. 179). Такого же типа неодобрительная оценка звучит и в другом контексте, передающем столкновение природы и цивилизации: За рекою солнышко садится, / Тишина сгустилась на селе… / Но хрипит неистовый транзистор / Из помытых в речке «Жигулей». / И спортивно развитый, тверезый, / Юноша, колдуя над костром, / Расчленяет белую березу. / Ту, что четверть века беззаботно / Красовалась на краю села… / Под которой дочка в ту субботу / Два большущих рыжика нашла! («За рекою солнышко садится…», с. 96). Для актуализации неодобрительной оценки П. Майский использует антитезу: образ солнышка вписан в гармоничный пейзаж и противопоставлен агрессивному миру технического прогресса, миру города, теряющего связь с природными истоками. Подход П. Майского соответствует современной лирической натурфилософии, которую М.Н. Эпштейн характеризует как экологическую, отмечая: «человек до конца не раскрыл еще природу в себе и себя как порождение природы», «цивилизация не превзошла природу, а еще только находится на подступах к ней, только начинает осознавать нерасторжимость своего союза с ней» [Эпштейн, 2007, с. 35].
Образ солнца включается П. Майским и в портретные зарисовки. Так, ключевую роль он играет в стихотворении «Каждым утром по нашему городу…»: Каждым утром по нашему городу, / С деловитой рабочей толпой, / Вдохновенно откинув голову, / На работу идет слепой. / Он шагает навстречу солнцу, / Улыбается и – молчит… / И рябое лицо, как подсолнух, / Жадно впитывает лучи! (с. 48). В тексте создается образ вдохновенно живущего человека. Отметим, что для П. Майского важны
эпитеты-наречия, выразительно передающие оттенок действия (как наречия «вдохновенно», «жадно» в рассматриваемом стихотворении). Создан символический образ пути навстречу солнцу. Фитоним «подсолнух» включен в метафорический контекст: лицо шагающего навстречу солнцу слепого уподобляется подсолнуху, тянущемуся к солнцу.
Есть у П. Майского и шутливая портретная зарисовка, в которой создан образ загорающей девушки: Солнца слиток золотистый / Так и плавится на ней… («На сочинском пляже», с. 150). Примечателен случай, когда П. Майский пишет портрет лосенка. Удивление лосенка, ощутившего разницу между солнцем летним и осенним, переданы с помощью олицетворения, лексики эмоциональной сферы, поэтического переноса, несобственно-прямой речи: А солнце вставало над лесом / Веселое, яркое , но / Совсем не такое, как летом – / Не грело лосенка оно… / И с грустью лосенок дивился / Беспечному солнцу тому: / Зачем этот снег появился / И холодно так почему?! («Когда за лосихой лосенок…», с. 122). В сборнике представлен единичный случай интерьерной зарисовки: Весело потрескивает печка, / Блещут окна в солнечных лучах / И в беленой горнице беспечно / Старенькие ходики стучат («На дворе и холодно и пусто…», с. 177).
Таким образом, раскрывающий образ солнца репродуктивный регистр в стихотворениях П. Майского создает не только пейзажные зарисовки, но и портрет, интерьер. Среди зарисовок преобладают сопровождаемые мелиоративной окраской образы родной природы.
Информативный регистр в стихотворениях П. Майского связан с автопсихологическими зарисовками, эксплицирующими образ солнца. Один раз использована собственно историческая зарисовка, посвященная последнему мирному дню перед Великой Отечественной войной. В стихотворении «День отступал медвяным косогором…» (с. 9) народное переживается как личное: Был субботний день, / Июньский, остывающий, неспешный / Погожий день таежных деревень. / Каждый житель здешний / Был делом занят. В улицах пустых / Слонялись куры. Золотило солнце / Акаций неподвижные кусты. / Шептались остывающие сосны, / Дивясь багряно-огненной звезде / Над розовым венцом закатных перьев^ / Таким он был - последний мирный день / Перед войной. / В июне. / В сорок первом. Мы наблюдаем характерное для П. Майского воспевание красоты природы, которое в контексте приобретает особый смысл. Прекрасное солнце – эстетический элемент погожего мирного пейзажа. Атмосфера покоя передана синтаксическим параллелизмом, включением имперфективов: Слонялись куры. Золотило солнце <…>. Появление образа солнца задает вертикаль художественного пространства и размыкает частное и бытовое до масштабного, имеющего надвременную значимость. Слово-образ включено в лексические парадигмы наименований природных объектов, неоднократно использованы фитонимы (акации, сосны), значим прием олицетворения природного мира. Высокая степень эстетизации проявляется, в частности, в перифразе солнца – единственном в сборнике: багряно-огненная звезда. Для текста характерна концентрация колоративов, которые, с одной стороны, создают яркий образ, а с другой – связаны с ощущением некоей кульминации, предела, за котором находится что-то, вызывающее тревожные предчувствия. Полнота прочувствования красоты природы передается именно с помощью приема контраста (последний мирный день – война). Антитеза соотносит одобрительную и неодобрительную оценку, имеющую сложную природу (психологическую, этическую, эстетическую).
В информативно-репродуктивном регистре построены автопсихологические зарисовки, сопряженные с дискурсом воспоминаний об истоках своего «я», обладающие исповедальностью. В контекстах актуализированы момент рождения, раннее детство, молодость. Деминутив, постоянный эпитет, народный образ рождения человека (нашли в капусте) подчеркивают безмятежность и чистоту раннего детства: И у неба где такая глубина, / Что луна при ясном солнышке видна… / Стосковался я по капельке земли, / Где в капусте меня маленьким нашли! («Стосковался я по капельке земли…», с. 73). В стихотворении «Я шел долиною лесной...» (с. 74) творительный сравнительный, актуализируя семантику стремительности, скорости, подчеркивает энергию молодости (герою 20 лет): Я шел долиною лесной, / Дышали травы летним зноем, / И солнце белкой слюдяной / По елкам прыгало за мною…
Исповедальность ярко проявляется в авто-психологической зарисовке «Когда я остаюсь один в беде…» (с. 58), в которой образ солнца неотъемлемо связан со счастливым днем прошлого: В таинственно рожденные ключи / Задумчиво роняли иглы сосны, / И солнце улыбалось… И лучи / Волнистые дымились вокруг солнца. Образ солнца появляется в сопровождении характерного для П. Майского фитонима «сосны». С одной стороны, включение фитонима в лексическую структуру текста обусловлено особенностями флоры Сибири, с другой – образ хвойных деревьев соотносится с размышлениями о надвременном: «Несменяемая зелень вызывает ассоциации хвойных деревьев с вечным покоем, глубоким сном, над которым не властно время, круговорот природы» [Эпштейн, 2007, с. 85]. Персонифицированное солнце представлено с помощью нераспространенного предложения с апосиопезой, которое гармонично включается в цельную картину с помощью союза и . Наблюдается повтор ключевого слова, конкретизация образа солнца происходит с помощью предметно-действенной характеристики ( лучи дымились вокруг солнца ). Отметим, что в сборнике «Сторонушка таежная моя» именно лучи становятся самой характерной предметной художественной деталью в создании образа солнца: лицо жадно впитывает лучи (с. 48), лучи волнистые дымились вокруг солнца (с. 58), тонкие тростинки лучей (с. 105), светлые лучи (с. 105), блещут окна в солнечных лучах (с. 177). Данный образ соединяет солнце и землю, актуализирует вертикаль художественного пространства.
В стихотворении о счастливом дне детства («Когда я остаюсь один в беде.») создана картина счастья - передано остановившееся прекрасное мгновение, согревающее всю жизнь. Сознание героя предстает как бытийное, при- касающееся к вечности (основаны на контрасте смысловые лексические парадигмы «минута – вечность», «тот день – вечность»): Ни облачка не виделось нигде, / Был августовским солнцем день просвечен, / И все казалось вечным в этот день, / И даже я себе казался вечным, / Неуязвимым всяческой беде / И счастьем не обязанный кому-то… / Вот почему в тот августовский день / Я ухожу в тяжелую минуту. Антититеза солнечного дня и тяжелой минуты основана на соотнесении мелиоративного образа безмятежного дня из детства, с одной стороны, и неодобрительно окрашенного образа душевной тяжести (смысловая лексическая парадигма со связью пересечения беда – тяжелая») – с другой. Вновь пейоративное у П. Майского существует не самостоятельно, а в соотнесении с одобрительным (даже идеальным), как и в репродуктивных зарисовках. В контексте оценка соединяет психологическое и эстетическое начала.
Образ солнца включен в весеннюю автоп-сихологическую зарисовку, передающую тему неумолимой победы весны над зимой, в стихотворении «Мы на мечту летим порой отважно…» (с. 60), где значим мотив полета и возникает реминисценция образа Икара. Кольцевая композиция текста связана с актуализацией темы мечты как преодоления границ, воплощения внутренней свободы. Если в начале стихотворения используется генеритивный регистр, то затем он перерастает в личностное, исповедальное изложение о весеннем дне и весеннем преображении души. Несмотря на явную реминисценцию образа Икара, падение в стихотворении стало счастливым: у лирического героя было (и осталось навсегда) прикосновение к бесконечности.
Генеритивный регистр соотносит образ солнца с надвременными смыслами, имеющими значение констант для лирического героя и с его точки зрения общечеловеческую ценность. Соответственно, стилистически важны не только зарисовки, но и рефлексивные контексты, делающие акцент не на картине, а на размышлениях.
Обнаружен единственный контекст, где ге-неритивный регистр связан с метафорическим
употреблением эпитета «солнечный» в характеристике типа людей, чья жизнь – яркое горение, дающее тепло окружающим: Они сгорают вдохновенно, / И через много-много лет / Тепло их солнечных мгновений / Нас согревает на Земле… / А мы, планетами вращаясь / Вокруг великих тех людей, / всегда ль достойно воплощаем / Тепло их солнечных идей? («О светилах», с. 42). Важную текстообразующую роль играет смысловая лексическая парадигма с семантикой тепла, огня – сгорают – тепло – солнечные (2) – согревает . Отметим экспрессивное подчеркивание роли таких людей с помощью контраста много-много лет – мгновения . Повтор строки с изменением лексического состава делает акцент на созидательном воздействии света разума великих людей. Солнечное начало, как и в портретной зарисовке «Каждым утром по нашему городу…», с. 48), выдержанной в репродуктивном регистре, связано с вдохновением (в стихотворениях используется лексический репрезентант «вдохновенно»).
Остальные случаи использования генери-тивного регистра связаны с лирической натурфилософией П. Майского, в которой сочетаются теологический и экологический подходы, дифференцированные М.Н. Эпштейном [Эпштейн, 2007, с. 21–35]. Например, в стихотворении «Солнечная деляна» (с. 105) образ солнца обладает высокой метафоричностью и реализуется в глагольных контекстах, создающих образ неизбежного и повторяющегося будущего, основанный на опыте лирического героя: И солнце, огромное солнце, / Полнеба собою закрыв, / Взойдет, протекая сквозь сосны, / На гребень высокой горы / И вдаль зашагает по кругу / На светлых тростинках лучей, / И дружно ударят по струнам / Сто тысяч лесных скрипачей! / И к нашей таежной избушке / луч солнца скользнет озорной… Высокая концентрация глагольных контекстов, создающих образ солнца, достигнута в стихотворении «Солнечная деляна» благодаря сочетанию глаголов и деепричастий. Эмоционально-экспрессивная насыщенность контекста основана на конвергенции стилистических приемов (полисиндетон, гипербола, повторы, звукопись). В других стихотворениях с генеритивным регистром воплощения образа солнца повторяется жизнеутверждающая характеристика светлого и радостного мира, тексты наполняются номинациями природы, солнце предстает как всеобъемлющее и царственное: Оно в кедрачах и в колосьях, / В озерах таежных, / Где хмуро темнеет вода, / И только в деревне, / На дне ледяного колодца, / Укрылась от солнца / Большая ночная звезда! («Мир солнцем наполнен…», с. 72). Отметим, что для зарисовок, выдержанных в гене-ритивном регистре, как и для других в сборнике П. Майского, характерна особая выразительность глаголов. Однако в данном случае используются формы простого будущего времени со значением будущего абстрактного – повторяющегося действия, в неизбежном и цикличном протекании которого уверен лирический герой.
Граница между манерой зарисовки и рефлексивными контекстами в генеритивном регистре нередко размыта и связана с доминантой изображения: либо оно запечатлевает увиденный лирическим героем мир, либо отражает размышления о нем. Маркерами рефлексивных контекстов становятся слова с абстрактной семантикой, лексика, обозначающая философские и нравственные категории, формы настоящего и будущего абстрактного, обобщенно-личные конструкции. Например, в стихотворении «Вот кончится унылый снегопад…» (с. 178) рефлексивный контекст плавно перетекает в мнемотическую зарисовку: И явится тот долгожданный миг! / И в памяти останется навечно: / Цветущий луг. Весна. Кедровки вскрик. / Пронизанная солнцем бесконечность / Густого неба. Талая вода / В лощинке, опаленной кандыками, / И около ручья огромный камень, / Из тьмы веков явившийся сюда, / На этот луг, что так наполнен цветом, / Так вознесен над суетностью лет!.. / Наверное, нигде на свете нет / Лесных полян прекраснее, чем эта! В рефлексивном контексте (первые две строки) использованы формы будущего абстрактного, передающие семантику бытийности, концептуально нагруженные имя существительное «память» и эпитет
«навечно». После двоеточия в стиле зарисовки создается экспрессивная картина весеннего цветущего луга. В данном случае используется номинативная манера, созвучная неторопливому созерцанию лирическим героем своего внутреннего мира. Однако и в зарисовке остаются черты генеритивного регистра: абстрактные имена существительные «бесконечность», «суетность», слова с семантикой бытийного, сакрального. Актуализируют философское звучание и смысловые лексические парадигмы. Смысловая лексическая парадигма «миг – навечно» основана на семантическом контрасте и участвует в воплощении философской темы времени. Смысловые лексические парадигмы «навечно - бесконечность» (связь пересечения), миг – суетность лет – навечно (градуальная связь), миг – тьма веков (антонимическая связь) подчеркивают смысл преодоления земных координат. Смысловая лексическая парадигма солнце – небо задает вертикаль художественного пространства и размыкает его до бесконечности. Обретение вертикали в художественном пространстве текста передано также сакральной лексикой – вознесен над суетностью лет . Отметим неоднократное использование в генеритивном регистре глагола «явиться» и его форм для подчеркивания философского характера изложения.
В рефлексивных контекстах повышается концептуальная нагрузка слов. Так, во всех регистрах встречаются эпитеты, характеризующие солнце: солнца свет высокий (с. 77), светлые лучи (с. 105), ясное солнышко (с. 73), солнце – огромное (с. 105), веселое, яркое, беспечное (с. 122), обжигающее (с. 156), розовое (с. 179). Для рефлексивного контекста показателен эпитет-окказионализм «августовейший»: Мир солнцем наполнен… / В тайге не найти уголка – / До самой зачахлой травинки /В пихтовом подлеске, / До ржавых, студеных, / Стерильных глубин родника – / Где б не было солнца / В его августовейшем блеске! (с. 71). Окказионализм основан на языковой игре и соединяет семантику календарную (имя прилагательное, производное от названия летнего месяца) и оценочную, метафорически представляющую величие, царственность солнца (семантика мотивирована именем императора Августа). При этом форма превосходной степени актуализирует именно оценочно-характеризующую семантику и максимальную степень ее проявления.
Выразительно воплощен генеритивный регистр в стихотворении «Под солнышком живешь…» (с. 113): Под солнышком живешь, не замечая / Вселенской сопричастности своей / Разбойному цветенью иван-чая, / Былинному пролету журавлей, / Величию безлюдия морского, / Сиянию божественных небес… / Увы, у равнодушия мирского / Весомые на то причины есть. / И лишь у той границы бытия, / Где надлежит к природе приобщиться, / Вдруг осознаешь: стало быть, и я / Вселенской бесконечности частица! Рефлексивный контекст стилистически проявляется в обобщенно-личной конструкции с формой настоящего абстрактного времени, в абстрактных именах-существительных, среди которых ключевую роль играет слово «сопричастность», сопровождаемое концептуально нагруженным эпитетом. Именно вселенская сопричастность - основа лирической натурфилософии П. Майского. Единство и бесконечность мира переданы поэтическим переносом перед рядом однородных членов, бессоюзием в самом ряду и апосиопезой, завершающей этот открытый перечень ликов природы. В каждом из четырех названных проявлений природного мира мы наблюдаем количественную экспрессивность, актуализацию максимального раскрытия признака с помощью эпитетов «разбойное», «былинное», «божественные», оценочно-характеризующей семантики имени существительного «величие». Формируется смысловая лексическая парадигма с градуальной связью иван-чай – журавли – морское безлюдье – божественные небеса , размыкающая художественное пространство и позволяющая соединить земное и божественное, увидеть проявление божественного в каждой детали природного мира 6 . Образ солнышка
репрезентирован в сильной позиции начала текста. Конструкция и контекст, соединяющий стилистику народно-поэтического и сакрального изложения, позволяют судить о трансформации устойчивого выражения «под богом» («все мы под богом ходим») – образ солнца сакрализуется. Ряд однородных членов, представляющих красоту и величие природы, уводит читателя от деепричастия «не замечая», грамматически управляющего концептуально нагруженным выражением «вселенской сопричастности» и отделенного от него анжанбеманом. Однако во второй композиционной части текста (после многоточия) достраиваются антитеза сопричастность – равнодушие , смысловая лексическая парадигма не замечая – равнодушие мирское , основанная на связи пересечения и характеризующая позицию человека, погруженного в суету и не видящего самого главного до определенной границы. О прозрении человека на этой границе рассказывает заключительная часть стихотворения, построенного в генеритивном регистре. Последняя строка стихотворения содержит вариативный лексический повтор, формирующий смысловую лексическую парадигму «вселенская сопричастность – вселенская бесконечность» , и прием этимологизации «сопричастность – частица» , что подчеркивает ключевой для П. Майского смысл: человек – часть природного мира, вечного и бесконечного, прекрасного и разнообразного, основанного на божественных законах.
Выводы. Для контекстов П. Майского с лексическими репрезентантами образа солнца характерна манера зарисовки – выразительного и лаконичного воссоздания картины. По соотнесенности с коммуникативным регистром разграничим зарисовки репродуктивные и инфор- мативные. Для генеритивного регистра характерны не только зарисовки, но и рефлексивные контексты.
Основа контекстов со словом-образом «солнце» – репродуктивные пейзажные зарисовки, имеющие мелиоративную окраску. Они воссоздают идеальный пейзаж, где лирический герой выступает в роли чувствующего и сознающего благодать и гармонию мира. Для актуализации неодобрительной оценки П. Майский использует антитезу: образ солнышка вписан в гармоничный пейзаж и противопоставлен агрессивному миру технического прогресса, миру города, теряющего связь с природными истоками. У П. Майского преобладают глагольные зарисовки, причем передаются не только действия самого солнца, но чаще – его преображающее воздействие на мир и человека.
Однако в художественно-образной речевой конкретизации значимы и другие разновидности контекстов (портретные, интерьерные, автопсихологические, исторические зарисовки, рефлексивные контексты), разнообразие приемов и средств выразительности. Семантикостилистическое воплощение образа солнца в лирике П. Майского опирается на его лирическую натурфилософию, в которой сочетаются теологический и экологический подходы.
Авторский вклад . Предпринят анализ ранее не описанного в стилистических исследованиях материала региональной литературы, использовано комплексное исследование ключевого образа, опирающееся на подходы коммуникативной стилистики текста, коммуникативной грамматики русского языка, аксиологической лингвистики, дано филологическое описание предметного мира художественного текста.
Список литературы Образ солнца в лирике П. Майского: семантико-стилистический анализ
- Арутюнова Н.Д. Аксиология в механизмах жизни и языка // Проблемы структурной лингвистики – 1982. М.: Наука, 1984. С. 5–23.
- Болотнова Н.С. Лексическая структура поэтического текста как ключ к постижению его ценностных смыслов // Русский язык в школе. 2019. Т. 80, № 1. С. 20–25. DOI: 10.30515/0131-6141-2019-80-1-20-25
- Болотнова Н.С. Лексическая структура художественного текста в ассоциативном аспекте. Томск: Изд-во Томского пед. ин-та, 1994. 212 с.
- Демченко Л.Н. Образ солнца в произведениях мировой литературы // European journal of literature and linguistics. 2019. № 3. С. 22–25. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-solntsa-v-proizvedeniyah (дата обращения: 01.08.2024).
- Дзыга Я.О. Образ Солнца в творчестве И.С. Шмелева и К.Д. Бальмонта // Ученые записки Казанского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2011. Т. 153, кн. 2. С. 86–96. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16756746&ysclid=m2xetyhktc739172753 (дата обращения: 05.08.2024).
- Ди Сяося. Образы неба и солнца в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» // Вестник РУДН. Сер.: Литературоведение. Журналистика. 2013. № 3. С. 42–48. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20303656&ysclid=m2xerm2vof486751761 (дата обращения: 05.08.2024).
- Заикина О.Н. Концепт «Солнце» в русской языковой картине мира // Слово и текст в культурном сознании эпохи: сб. науч. тр., Вологда, 08–09 ноября 2012 г. / Вологодский государственный педагогический университет. Вологда: Легия, 2012. С. 198–203. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25658800&pff=1&ysclid=m2xevsnk69144004090 (дата обращения: 08.08.2024).
- Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка / под общ. ред. Г.А. Золотовой. М.: ИРЯ РАН им. В.В. Виноградова, 2004. 544 с.
- Каратанова А.Б. Образ-символ солнца и его семантика в лирике К.Д. Бальмонта // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7, № 4 (25). С. 173–176. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?ysclid=m2xecmk0f404950240&id=36746037 (дата обращения: 01.08.2024).
- Колокольцева Т.Н. Солярная символика и ее текстообразующие возможности в поэзии (на материале произведений К. Бальмонта и И. Северянина) // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2012. № 4 (68). С. 97–100. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17661855&ysclid=m2xfb672jd652963330 (дата обращения: 31.10.2024).
- Кушнерук С.Л. Направления исследования миромоделирования в российской лингвистике: парадигмальные рамки и понятийный аппарат // RUSSIAN JOURNAL OF LINGUISTICS. 2024. Т. 28, № 2. С. 439–465. DOI: 10.22363/2687-0088-35762
- Матвеева Т.В. Категориально-текстовой анализ речевого произведения: обоснование и применение метода // Quaestio Rossica. 2024. Т. 12, № 3. С. 901–920. DOI 10.15826/qr.2024.3.915
- Папшева Г.О., Матвеева О.Н., Голубцова Н.В. Символика небесных светил в поэтическом тексте А. Ахматовой: солярная символика // Вестник Удмуртского университета. Сер.: История и филология. 2023. Т. 33, вып. 4. С. 873–883. DOI: 10.35634/2412-9534-2023-33-4-873-883
- Папшева Г.О., Голубцова Н.В., Матвеева О.Н. Символика небесных светил в поэтическом тексте Н.С. Гумилева: солярная символика // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 2022. № 3 (89). С. 99–110. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/simvolika-nebesnyh-svetil (дата обращения: 05.08.2024).
- Пушкарева И.А., Пушкарева Ю.Е. Мотив полета в лирике А.Д. Раевского // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: История, филология. 2024. Т 23, № 2. С. 115–125. DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-2-115-125
- Чжу Чжисюе. Лексические и фразеологические репрезентации концептов небесных светил в художественной картине мира романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. Вып. 7 (204). С. 63–71. DOI: 10.23951/1609-624X-2019-7-63-71
- Эпштейн М.Н. Стихи и стихии. Природа в русской поэзии XVIII–XX вв. Самара: Издательский Дом «Бахрах-М», 2007. 352 с.