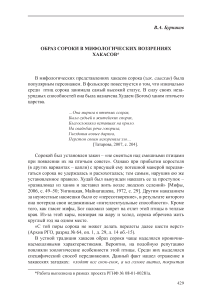Образ сороки в мифологических воззрениях хакасов
Автор: Бурнаков В.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XV, 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521565
IDR: 14521565
Текст статьи Образ сороки в мифологических воззрениях хакасов
[Татарова, 2007, с. 204].
Сорокой был установлен закон – «не смеяться над смешными птицами при появлении их на птичьем совете». Однако при прибытии коростеля (в других вариантах – цапли) с присущей ему потешной манерой передвигаться сорока не удержалась и расхохоталась; тем самым, нарушив ею же установленное правило. Худай был вынужден наказать ее за проступок – «разжаловал из ханов и заставил жить возле людских селений» [Мифы, 2006, с. 49–50; Унгвицкая, Майнагашева, 1972, с. 29]. Другим наказанием за неуместные насмешки было ее «пересотворение», в результате которого она потеряла свои недюжинные «интеллектуальные способности». Кроме того, как гласят мифы, Бог наложил запрет на отлет этой птицы в теплые края. Из-за этой кары, невзирая на жару и холод, сорока обречена жить круглый год на одном месте.
«С той поры сорока не может делать перелеты далее шести верст» (Архив РГО, разряд № 64, оп. 1, д. 29, л. 14 об.-15).
В устной традиции хакасов образ сороки чаще наделялся ироничнонасмешливыми характеристиками. Вероятно, на подобную репутацию повлияли зоологические особенности этой птицы. Среди них выделялся специфический способ передвижения. Данный факт нашел отражение в хакасских загадках: «ходит все скок-скок, а на голове шапка, покрытая черным сукном; вокруг улуса ходит хромая сорока (ступка, обходящая всю юрту)» [Катанов, 1907, с. 240,272], «с подпрыгивающим ходом, сукрашен-ным бронзовым седлом» [Бутанаев, Бутанаева, 2008, с. 322].
На пренебрежительное отношение хакасов к сороке, возможно, повлиял еще и тот факт, что она является всеядной птицей. При этом значительную долю ее пищевого рациона составляют пищевые отходы, а также падаль. В связи с этим, в народе ее нередко называют пуртах хус – ‘ нечистая птица ’. Кроме того, дурную славу сороке принесла ее склонность к «воровству и разбою». Известно, что сорока, как и ворона ( харга ) регулярно разоряет гнёзда других птиц, истребляет их птенцов.
Стоит несколько подробнее остановиться на самом процессе похищения и транспортировки яиц сорокой. Автору этих строк лично и неоднократно приходилось наблюдать за поведением этой птицы. Объектом похищения были куриные яйца. Известно, что сорока не может целиком поместить и удержать их в своем клюве. Для облегчения транспортировки «похитительница» пробивает дырку у тупого конца яйца и вставляет туда верхнюю часть клюва, нижней придерживает яйцо снизу. Подобным образом похищенные яйца сорока обычно уносит в укромное место, где и поедает. Данное поведение говорит о высокой сообразительности и наблюдательности этой птицы. Хищническая природа сорок, как и в целом врановых птиц, была убедительно отражена в фольклоре.
…Отныне мы станем
Грозой ваших гнезд!
Из них будем яйца Весною мы красть И не отвратите Вы эту напасть [Кильчичаков, 1989, с. 6–7].
Кроме того, сорока своими повадками – живостью, непоседливостью и неугомонным стрекотанием сформировала символический образ «болтливой птицы». Как известно, сорока редко кого (особенно незнакомого) «пропустит» незамеченным около себя, и об увиденном сразу же «известит» всю округу. Данные реалии проявились в устойчивых выражениях хакасского языка. Они, как правило, применяются для характеристики людей, которым присущи такие черты, как чрезмерная словоохотливость, живость и любопытство: сарыг пастыг саасхан полба – ‘ не будь сероголовой сорокой ’ [Майнагашев, 2003, с. 14]; саасхан чiли сегiреннерге – ‘ вертеться как сорока ’; саасханма – ‘ не будь сорокой ’ [Хакасско-русский, 2006, с. 419].
Стоит заметить, что в народе порой стрекотание сороки воспринималось как своеобразное музыкальное исполнение. Это нашло отражение в хакасских загадках: Посреди селения ( бегает ) хомыс * с грифом ( сорока ),
Сорока стрекочет, ее хвост в моих руках ( хомыс ) [Бутанаев, Бутанаева, 2008, с. 321, 337].
В верованиях хакасов «говорливость» сороки также нередко ассоциировалась со сплетнями и обманом. В этой связи среди хакасов было распространено выражение: Саасхан аалаладарга – ‘ поболтать , посплетничать ( букв . сороку принимать в гости )‘ [Боргоякова, 2000, с. 67].
Восприятие сороки, как «лгуньи, живущей обманом» отчетливо проявилось в фольклоре. В мифах сообщается, что из-за особенностей своего характера и пищевой неразборчивости эта птица подверглась остракизму со стороны животного мира: Ты, сорока, не кричи, у тебя стыда совсем нет. Ты лгунья, обманом только живешь! Когда волк давит овец, ты их кровью питаешься. Ты и сама как волк кровожадная, как увидишь кровь, то тут как тут, скок да скок. Нечистая грязная твоя жизнь, тебя из птиц никто не любит. И зверь тебя не любит, ты сама как волк. Вы с волком одинаковые, что угодно будете есть [Мифы, 2006, с. 46].
В представлениях хакасов сороке были присущи еще и такие негативные черты, как жадность и жестокосердие. В одном из мифов, собранных Н.Ф. Катановым, повествуется о том, как сорока, пообещав помочь старой женщине, выпрашивает у нее угощение. Однако насытившись, она забывает о своем обещании и скрывается [1963, с. 149]. Характеристика сороки, как бесчестной и прожорливой птицы обнаруживается и в народных поговорках. При этом ее образ переносится на жадных и алчных людей: Саас-хан харагы чаглыг – ‘ У сороки глаза сальные ’ [Ачитаева, 2005, с. 129].
В воззрениях хакасов образ сороки, как правило, соотносился с женским началом: Тот род, в котором женщины – сороки! И так высокомерны, как глупы! [Татарова, 2007, с. 191]. Кроме того, в фольклоре сорока была связана с идеей материнства. При этом стоит отметить, что символизация этой птицы в данной ипостаси все же в большей мере имела негативные характеристики. Она чаще изображалась как «плохая мать». В «Сказке о хитрой лисе» сорока, поддавшись обманным уговорам лисы, отдает ей на съедение своих птенцов [Кильчичаков, 1989, с. 22]. В «Песне-плаче сороки» из-за своей недальновидности она опять-таки лишилась своих птенцов.
На дереве низком устроив гнездо, Какой же была я неумною!
К земле очень близко устроив гнездо, Какой же была я немудрою!
Пришла с половодьем большая вода, С собой унесла моих деточек!
Теперь я на свете осталась одна, Как дерево сохну без веточек!
[Татарова, 2007, с. 216].
Между тем, высокие «коммуникативные способности» сороки содействовали формированию ее образа, как птицы, приносящей вести.
Исходя из подобных характеристик, в народе распространилась примета: если сорока прилетит к дому и начнет стрекотать, а потом улетит, то обязательно будут гости (ПМА-2009, с. Аскиз РХ, Тасбергенова/Тю-кпеева Н.Е.). Верили, что сорока не всегда приносит добрые вести. Подобно другим врановым птицам, она могла предвещать плохое. Для предотвращения беды проводили специальный обряд. Как сообщал в ХІХ в. исследователь хакасской культуры Н. Попов: «Если сорока садится около юрты и щекочет, то необходимо бросить в нее пеплом из очага; в противном случае в этой юрте может быть несчастье» (Архив РГО, разряд № 64, оп. 1, д. 29, л. 15).
В хакасской мифопоэтике при описании чужой и далекой земли (мира) наряду с вороном опять-таки используется образ сороки, как вездесущей птицы.
…Смотри-ка, там желтая степь, Куда не спустится и сорока, Бледная широкая степь, Куда не спустится ворон!
[Радлов, 1989, с. 241].
В прошлом в хакасских семьях, где была высокой детская смертность, новорожденным нередко давали имя, обозначающее эту птицу – Саасхан [Каратанов, 1884, с. 16]. Имя, безусловно, носило предохранительный характер, и выступало в качестве апотропея.
Сорока была популярной не только в устном творчестве хакасов. Эта птица, вернее ее отдельные органы, широко использовались в народной медицине. Как сообщал Н.Ф. Катанов: «Лишай и парша исчезают, если помазать его теплым свежим мозгом сороки» [1899, с. 394].
Подытоживая все вышесказанное можно констатировать, что в мировоззрении хакасов значительное место отводилось сороке. Образ этой птицы в большей степени наделялся ироничными и отрицательными чертами.