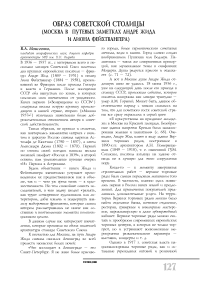Образ советской столицы (Москва в путевых заметках Андре Жида и Лиона Фейхтвангера)
Автор: Моисеенко В.А.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Россиеведение
Статья в выпуске: 1 (5), 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14720351
IDR: 14720351
Текст статьи Образ советской столицы (Москва в путевых заметках Андре Жида и Лиона Фейхтвангера)
Таким образом, не прошло и столетия, как повторилась знаменитая интрига с визитом в царскую Россию сначала маркиза Астольфа де Кюстина (1790 — 1857), а затем Александра Дюма (1802 — 1870). Первый по итогам своей поездки написал весьма желчный памфлет «Россия в 1839», а второй оставил нам увлекательные путевые очерки «Из Парижа в Астрахань».
Будем объективны — книги Жида и Фейхтвангера значительно уступают произведениям их предшественников как в объеме, так и — чего уж греха таить — в художественности. Но тем спокойнее совесть исследователей, в чью задачу входит «разъять, как труп» сотворенное художником или литератором, дабы извлечь и подвергнуть анализу выборочные фрагменты, которые самим автором рассматривались не иначе как составные и неотъемлемые элементы композиционного целого.
В данном случае нас интересуют впечатления, которые произвела на обоих писателей архитектура столицы Советского Союза.
К несчастью для Москвы, на пути Андре Жида сначала оказался Ленинград во всей прелести июньских белых ночей:
«Что восхищает в Ленинграде — это Санкт-Петербург. Я не знаю более красиво- го города, более гармонического сочетания металла, воды и камня. Город словно создан воображением Пушкина или Бодлера. Памятники — таких же совершенных пропорций, как музыкальные темы в симфониях Моцарта. Душа радуется красоте и отдыхает» (с. 71 - 72).
А вот в Москве душе Андре Жида отдохнуть явно не удалось. 18 июня 1936 г., уже на следующий день после его приезда в столицу СССР, произошло событие, которое писатель воспринял как личную трагедию — умер А.М. Горький. Может быть, данное обстоятельство наряду с иными сказалось на том, что для почетного гостя советской страны все сразу окрасилось в серый цвет:
«Я присутствовал на празднике молодежи в Москве на Красной площади. Безобразные здания напротив Кремля были замаскированы зеленью и плакатами» (с. 68). Очевидно, Андре Жид имеет в виду здание Верхних торговых рядов, построенное в 1890-х гг. архитектором А.Н. Померанцевым (1849 — 1918), т. е. нынешний ГУМ. Согласны, писатель взглянул на здание отнюдь не в лучшую для этого сооружения пору.
Когда-то — к моменту завершения строительных работ — верхние торговые ряды были самым передовым магазином того времени. В частности, именно здесь появилась первая в России книга жалоб и предложений. Для привлечения покупателей предлагались дополнительные услуги. На территории Верхних торговых рядов можно было найти отделение банка, почтовое отделение, ресторан, траверные и ювелирные мастерские, парикмахерскую и даже зубоврачебный кабинет. Верхние торговые ряды можно считать и прообразом современных европейских торговых центров, в которых не только торгуют, но и устраивают всевозможные мероприятия развлекательного характера — выставки, концерты и т. д.
Однако в 1917 г. советская власть национализировала торговые ряды, как и остальные учреждения оптовой и розничной торговли в городе. Сначала здание стояло опустошенным и разоренным, а затем его помещения были переданы советским государственным учреждениям.
В годы НЭПа в здание на Красной площади снова, правда, ненадолго, появились магазины. В большинстве из них продавались канцелярские товары, которые все в большем количестве требовались многочисленным чиновникам стремительно разраставшихся ведомств. Так появился ГУМ — государственный универмаг, здание которого в начале 1930-х гг. снова стало постепенно заселяться советскими учреждениями. Вскоре магазины были полностью вытеснены конторами и производственными помещениями.
Датой второго рождения универмага считается 1953 г., когда советское правительство приняло решение выселить из ГУМа все учреждения и возобновить там торговлю. Зданию требовалась масштабная реконструкция, которая и была проведена в рекордно короткие сроки. В самый большой универмаг страны свозились товары со всех концов СССР. В первый же день открытия к универмагу выстроились гигантские очереди, регулировать которые приходилось милицией. Стоящих в многочасовых очередях за дефицитными товарами насмешливо называли «гуманистами».
Таким образом, Андре Жид разглядывал ГУМ как раз тогда, когда универмаг использовался вовсе не по назначению. Да и саму Москву писатель увидел в тот момент, когда полным ходом развернулись работы по ее реконструкции. А, как известно, в период ремонта любой объект выглядит не слишком эстетично:
«После Ленинграда хаотичность Москвы особенно заметна. Она даже подавляет и угнетает вас. Здания, за редкими исключениями, безобразны (и не только современные), не сочетаются друг с другом. Я знаю, что Москва преображается, город растет. Строят, ломают, копают, сносят, перестраивают— и все это как бы (курсив наш — В. М.) случайно, без общего замысла» (с. 72). Сделанная писателем оговорка — «как бы» — вряд ли случайна. Наверняка, Андре Жиду рассказали о принятом в июле 1935 г. плане реконструкции Москвы, однако поведать о нем читателю своей книги он по каким-то причинам не захотел.
Вместо Андре Жида это сделал Лион Фейхтвангер:
«Стоишь на маленькой эстраде перед гигантской моделью, представляющей Москву 1945 г. — Москву, относящуюся к сегодняшней Москве так же, как сегодняшняя относится к Москве царской, которая была большим селом. Модель электрифицирована, и все время меняющиеся голубые, зеленые, красные электрические линии указывают расположение улиц, метрополитена, автомобильных дорог, показывают, с какой планомерностью будут организованы жилищное хозяйство и движение большого города. Огромные диагонали, разделяющие город, кольцевые магистрали, расчленяющие его, бульвары, радиальные магистрали, главные и вспомогательные пути, учреждения и жилые корпуса, промышленные сооружения и парки, школы, правительственные здания, больницы, учебные заведения и места развлечений — все это распланировано и распределено с геометрической точностью.
Никогда еще город с миллионным населением не строился так основательно по законам целесообразности и красоты, как новая Москва. Бесчисленные маленькие вспыхивающие точки и линии показывают: здесь будут школы, здесь больницы, здесь фабрики, здесь магазины, здесь театры. Москва-река будет проходить здесь, а здесь пройдет канал Волга — Москва. Тут будут мосты, а здесь под рекой пройдет тоннель, там протянутся пути для подвоза продовольствия, а вот здесь — для всякого рода другого транспорта, отсюда будем регулировать водоснабжение города, отсюда электроснабжение, а тут будет теплоцентраль.
Все это так мудро увязано одно с другим, как нигде в мире.
Проведение трех диагональных магистралей длиной от пятнадцати до двадцати километров каждая и трех новых радиальных магистралей, разбивка двух параллельных улиц, расширение Красной площади вдвое (несчастный ГУМ! — В. М), размещение жилых корпусов, перенесение опасных в пожарном отношении и вредных производств, строительство широких набережных, одиннадцати новых мостов и новых железнодорожных путепроводов, распределение теплоцентралей, пятисот тридцати новых школьных зданий, семнадцати новых боль- ших больниц и двадцати семи амбулаторий, девяти новых огромных универмагов, увеличение площади города на тридцать две тысячи гектаров, закладка мощного, шириною в десять километров, защитного поясного массива парков и лесов, который кольцом окружит город, расширение пятидесяти двух районных парков в пределах города и тринадцати парков на окраинах — все это так точно рассчитано, так мудро увязано, что даже самого трезвого наблюдателя должны взволновать размах и красота проекта.
Инициаторами этого проекта являются Н.С. Хрущев, Л.М. Каганович и Иосиф Виссарионович Сталин.
Да, испытываешь несравненное эстетическое наслаждение, рассматривая модель такого города, построенного с самого основания по правилам разума, — города первого в своем роде, с тех пор как люди пишут историю. Стоишь и смотришь на гигантскую модель, а архитекторы дают объяснения. В 1935/1936 г. мы намечали построить школы здесь и здесь — и в соответствующих местах вспыхивают электрические точки, — а вот сколько мы фактически построили — и точек вспыхивает больше. В первые полтора года мы хотели построить больницы здесь и здесь, а построили фактически — и опять точек вспыхивает больше, чем было запроектировано. Если хочешь рассмотреть модель подробнее, отдельные кварталы города, то модель автоматически раздвигается, проходишь туда, сюда, осматриваешь будущий город, выбираешь себе любимые места.
Радостно сознавать, что эта модель не игрушка не фантастическая утопия западного архитектора, но что через восемь лет она будет претворена в действительность (т. е. к 1945 г. Кто же знал, что через четыре года начнется Великая Отечественная? — В. М). Эта уверенность основана на сознании того, сколько до сих пор уже сделано и насколько нынешняя Москва отличается от прежней. В Москве при последнем царе было заасфальтировано или вымощено булыжником 200 000 квадратных метров улиц и площадей, теперь — 3 200 000 квадратных метров. В старой Москве потребление воды на душу населения составляло 60 литров в день, теперь 160 литров (берлинец потребляет 130 литров). Старая Москва располагала самыми отсталыми средствами сообщения в мире, новая, со своей расширенной трамвайной сетью, со своими автобусами и троллейбусами и своим великолепным метро, стоит — с 550 поездками в среднем в год на каждого жителя — на первом месте среди городов мира. В первые два года, на которые падали труднейшие задачи, план строительства Москвы был осуществлен больше чем на сто процентов. Таким образом, не подлежит сомнению, что запланированное на следующие восемь лет будет также осуществлено.
Но самым важным мне кажется не то, что в такой исключительно короткий срок были и будут построены дома, улицы, средства передвижения. Самым поразительным и новым является планомерность, разумность целого, тот факт, что по внимание принимались не только потребности отдельных лиц, а поистине потребности всего города, — нет, всего гигантского государства, ибо в плане Москвы предусмотрено, что число жителей не должно превышать пяти миллионов, и уже сейчас рассчитано, куда будет направлен излишек населения. В Америке в самом большом городе страны проживает 9 процентов всего населения страны, во Франции— 12, в Англии — свыше 15 процентов. Советский Союз по многим весьма понятным причинам не желает, чтобы число жителей столицы беспорядочно росло, поэтому он с самого начала ограничивает его 2,5 процента всего населения страны» (с. 180 — 183).
Однако и Фейхтвангер видит, как встает во весь рост в России пресловутый «квартирный вопрос»:
«Значительная часть населения живет скученно, в крохотных убогих комнатушках, трудно проветриваемых зимой. Приходится становиться в очередь в уборную и к водопроводу. (Уточним, что Владимир Высоцкий с его знаменитой строчкой о «тридцати восьми комнатках» к тому времени еще даже не родился — В. М.). Видные политические деятели, писатели, ученые с высокими окладами живут примитивнее, чем некоторые мелкие буржуа на западе» (с. 171).
«Но москвичи понимают, что и жилищное строительство ведется по принципу: сначала для общества, а потом для одиночек, и представительный вид общественных зданий и учреждений их до известной степени за это компенсирует. Клубы рабочих и служащих, библиотеки, парки, стадионы —все это богато, красиво, просторно. Общественные здания монументальны, и благодаря электрификации Москва сияет ночью, как ни один город в мире.
Жизнь москвича проходит в очень значительной части в общественных местах; он любит улицу, охотно проводит время в своих клубах или залах собраний. Уютные помещения клуба помогают ему легче переносить непривлекательную домашнюю обстановку. Однако основное утешение в своей печали по поводу скверных жилищных условий он черпает в обещании: Москва будет прекрасной» (с. 178 — 179).
Андре Жид оппонирует:
«Больницы, дома отдыха, культурные учреждения и т. д. — можно поверить, что все это для народа, или, во всяком случае, надеяться, что народ всем этим воспользуется. Но что прикажете думать, когда при такой нищете собираются вложить национальные средства в строительство Дворца Советов... Подумать только! Сооружение высотой в 415 метров, увенчанное 70 — 80метровой скульптурой Ленина из нержавеющей стали, один палец его будет длиной в 10 метров».
И тут же в примечаниях — камень в огород источника информации: «Мы не можем себе позволить усомниться в цифрах, которые приводит Жан Понс. Однако десятиметровый палец при общей высоте в 70 — 80 метров?.. Будем надеяться, по крайней мере, что Ленин сидит» (с. 130). (Последние слова цитаты заставляют россиян незамедлительно вспомнить классическую реплику незабвенного Савелия Крамарова в «Джентльменах удачи».)
Помимо всего прочего, в своей книге Фейхтвангер демонстрирует нам личные пристрастия и антипатии в области архитектурных стилей:
«Проекты отдельных архитекторов, которые можно увидеть на московской строительной выставке, кажутся мне не лучше и не хуже, чем во всяком другом месте; с точки зрения творчески-революционной мне понравились работы только трех архитекторов, в работах остальных много эклектизма и классицизма, мало меня трогающих» (с. 179). (Надо полагать, происшедшую за несколько лет до этого в СССР смену конструктивистских установок ориентацией на освоение классического архитектурного наследия писатель не слишком одобряет. — В. М).
Что же касается Андре Жида, то он совершенно не озабочен проблемой смены архитектурных стилей. Для него важно совсем другое:
«Обсуждаются проекты новых зданий. X., архитектор, предлагает план квартиры.
— Это что за помещение?
— Комната для прислуги.
— Прислуги?.. Вы же хорошо знаете, что теперь прислуги нет.
И поскольку в теории прислуги больше не существует, отличный повод, чтобы заставить ее спать в коридоре, на кухне —где угодно» (с. 147 — 148).
Обращает на себя внимание отсутствие в обеих книгах сколько-нибудь подробного описания архитектуры станций и наземных павильонов московского метро, такого крупного градостроительного ориентира, как Шухова башня на Шаболовке, строящейся гостиницы «Москва», наконец, мавзолея Ленина. Видно, что основной целью двух писателей была не мертвая материя, а живые люди новой общественной формации. Архитектура же служила лишь одним из задних планов, помогающим оттенить те или иные черты представителей социалистического общества. Вероятно, именно по этой причине архитектурный образ Москвы предстал у Андре Жида и Лиона Фейхтвангера не как законченное полотно, а, скорее, как скромная, не претендующая на сугубую детализацию, акварель. Но именно присущие такой акварели непосредственность и свежесть восприятия составляют для нас основную ценность обеих книг в рассмотренном аспекте.
Примечания
1Жид А. Возвращение из СССР // Два взгляда из-за рубежа. М. , 1990. С. 61 —162. Далее ссылки на это произведение даются в тексте с указанием номера страницы в скобках.
2 Фейхтвангер Л. Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей // Там же. С. 163 —259. Далее ссылки на это произведение даются в тексте с указанием номера страницы в скобках.