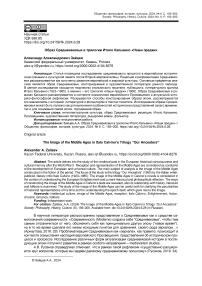Образ средневековья в трилогии Итало Кальвино «Наши предки»
Автор: Зайцев А.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию средневекового прошлого в европейском историческом сознании и культурной памяти после Второй мировой войны. Рецепция и репрезентация Средневековья рассматриваются как константы развития европейской и мировой культуры. Основным предметом анализа является образ Средневековья, конструируемый в художественной литературе данного периода. В центре исследования находится творчество итальянского писателя, публициста, литературного критика Итало Кальвино (1923-1985), а именно - его трилогия «Наши предки» (1960). Образ Средневековья в романах Кальвино рассматривается в контексте осмысления европейского Просвещения и актуальной историко-философской рефлексии. Раскрываются способы конструирования образа эпохи, рассматривается его взаимосвязь с историей, литературой и фольклором в текстах писателя. Исследование образа Средневековья может быть полезно как для выяснения особенностей исторических представлений своего времени, так и для понимания самой эпохи, породившей образ.
Интеллектуальная культура, образ средневековья, рецепция, итало кальвино, просвещение, художественная литература, рыцарский роман, фольклор
Короткий адрес: https://sciup.org/149145935
IDR: 149145935 | УДК: 930.85 | DOI: 10.24158/fik.2024.6.28
Текст научной статьи Образ средневековья в трилогии Итало Кальвино «Наши предки»
Казанский федеральный университет, Казань, Россия, ,
В научной литературе распространено представление о Средневековье как о средстве самопознания современности: «Современность (Moderne) создала себе “Средневековье”, чтобы тем самым отграничиться от него, обозначить себя как принципиально другую эпоху (“новое время”), но в то же время сделала его неким исходным пунктом для сравнения, своего рода зеркалом…» (Арнаутова, 2016: 29). Проблематизация Средневековья как «зеркала», как правило, происходит в контексте осмысления наследия европейского Просвещения, представлений об историческом процессе и прогрессе. Исследование различных форм актуализации средневековой истории в последующие эпохи получило развитие в рамках особого направления – medievalism studies.
А.В. Русанов справедливо отмечает, что в рамках такой рефлексии «существенно расширяется круг вопросов, которые мы задаём далёкому средневековому прошлому» (Русанов, 2019: 34).
Видный медиевист О.Г. Эксле рассуждает о множественности образов Средневековья и их противоречивости (Эксле, 2011: 154), ставя вопрос о том, как один и тот же средневековый «предмет» «воспринимался и воспринимается исторически обусловленной культурной памятью разных европейских стран в эпоху современности и как он в соответствии с этим объясняется различными историческими дисциплинами?» (Эксле, 2011: 155).
В целом, можно утверждать, что медиевализм как исследовательское направление ориентирует на изучение диалога эпох, то есть современности и Средневековья, их взаимного соотношения, а образ Средневековья становится предметом не только истории культуры или философии истории, но и «традиционной» историографии.
Интересной с точки зрения обращения к Средневековью является фигура итальянского писателя Итало Кальвино (1923–1985). Его творчество зачастую рассматривается в контексте постмодернистских тенденций в культуре, а сам И. Кальвино определяется как классик постмодерна. Литературный процесс можно рассматривать как один из вариантов формирования исторического сознания, при этом художественная литература XX в. содержит разнообразные примеры исторической рефлексии. Образ Средневековья в текстах таких авторов, как У. Эко или М. Павич, давно приобрёл хрестоматийный характер. Творчество И. Кальвино в этом смысле является не вполне очевидным, но весьма любопытным предметом исследования.
Наследие И. Кальвино разнообразно, и в формате статьи не представляется возможным охватить целиком комплекс его произведений, имеющих отношение к медиевальной тематике. Поэтому в рамках данного исследования рассматривается образ Средневековья в трилогии И. Каль-вино, состоящей из романов, написанных в 1950-е гг. и переизданных в 1960 г. под общим названием «Наши предки»: «Раздвоенный виконт»1, «Барон на дереве»2 и «Несуществующий рыцарь»3.
Названная трилогия представляет особый интерес как серия текстов, воспроизводящих образы и сюжеты отдалённого прошлого и вместе с тем открывающих новый этап в творческой биографии писателя. Как известно, первоначально И. Кальвино работал в рамках реализма. В плане ориентира для него особо важным являлось творчество Э. Хемингуэя, чьё влияние явно прослеживается в его полуавтобиографических произведениях о Второй мировой войне и итальянском Сопротивлении. Однако на рубеже 1940–1950-х гг. писатель переживал своеобразный творческий кризис4 и в поисках его преодоления двигался от реалистической к фантастической форме, к философской сказке. Источником вдохновения для него в значительной мере были итальянский фольклор и средневековая литература. Как отметил М. Лоллини, возврат к сказке в итальянской литературе происходил в переходные периоды истории, во время кризисов, и в случае с Кальвино это был период радикальных культурных преобразований послевоенного времени (Lollini, 1997: 288). В позднем интервью (1985) писатель подробно описывает своё восприятие реализма и претензий на объективность в литературе в ранний период своего творчества. Он говорит о том, что создавал реалистические произведения, поскольку пережил некоторый опыт непосредственно5, и что качественно сделанная документалистика может быть очень ценной, хотя для этого автор должен действительно хорошо знать контекст6. Но в то время когда Кальвино ещё воспринимал литературу как зеркало действительности, его не устраивала пассивность реалистического отражения7, отсюда, по-видимому, проистекает и поиск новых форм. Медиевальный мотив этих поисков обозначает Т. Де Лауретис: кратко характеризуя периоды творческой биографии писателя, она подчёркивает, что задачей его произведений 1950-х гг. было восстановить и привнести в послевоенную культуру традицию народной литературы, восходящую к Средневековью (De Lauretis, 1986: 98). Но дело в том, что для Кальвино последнее как таковое не было основным предметом творческого интереса. Поэтому тем более значимо рассмотреть присутствие Средневековья в его ранних текстах и то, каким образом медиевализм «становится для Кальвино в этот период оптимальной формой литературного творчества и философского размышления» (Зайцев, 2022: 146).
Однако прежде стоит сделать некоторые замечания о соотношении фантазии и истории в рамках художественной литературы. Актуальным в этом плане представляется анализ подхода к истории со стороны писателей-постмодернистов в статье А.В. Месянжиновой: исследователь обращается к теории К.Г. Юнга и рассматривает роль праобраза (архетипа), лежащего в основе художественного произведения. А.В. Месянжинова отмечает, что в процессе обращения к архетипам исторической памяти писатели-постмодернисты не воспроизводят исторические события, а вольно интерпретируют исторические факты для создания искусственных культурных моделей и литературных мистификаций, свободно синтезируя их с мифами и легендами, а также с элементами фантастики (Месянжинова, 2005: 85). История, создаваемая писателем, разворачивается в игровом пространстве между мифом, историческими реалиями и художественным вымыслом (Месянжи-нова, 2005: 86). Представляется, что такое соотношение фантазии и истории необходимо учитывать при анализе трилогии И. Кальвино, выстроенной вокруг исторических образов и сюжетов.
Другое замечание касается отношения И. Кальвино к фольклору и его соотношения с литературой. Писатель известен как собиратель и интерпретатор фольклора, результатом его работы стала публикация сборника итальянских сказок (1956). К. Баккилега рассматривает роман «Несуществующий рыцарь» в контексте представлений И. Кальвино о фольклоре и, в частности, отмечает, что он осознавал значительное сходство между фольклором и литературой с самого начала своего писательского пути (Bacchilega, 1989: 84).
Итак, трилогия «Наши предки» представляет собой размышление о современном человеке в жанре философской сказки, и в общем и целом И. Кальвино в ней говорит о том, как становятся людьми1.
Роман «Раздвоенный виконт» – это история благородного Медардо ди Терральбы, с которым произошло невероятное: пушечный выстрел разрывает виконта пополам, и две его части продолжают жить отдельно друг от друга, с тем чтобы в итоге герой соединился сам с собой и обрёл бо́льшую цельность. И. Кальвино изображает современного человека (точнее, интеллектуала), который разделён, то есть неполон, «отчуждён»2. Это метафора современного человека, который «раздвоен, изувечен, ущербен, враждебен самому себе»3.
Л.З. Антунеш исследует отношение между личностью и историей в данном романе. Она отмечает, что, согласно И. Кальвино, задача послевоенной литературы была такова: посредством фантазии изобразить единство человека и космоса, нереализованное в современном обществе, а также обстоятельства, в которых человеческая практика восстанавливает контроль над историей, становится способной изменять текущие условия жизни (Antunes, 1986: 101).
И. Кальвино описывает процесс размышления над романом, показывая, как из самого образа главного героя определилось время действия произведения: ранение виконт должен получить на войне, лучше на какой-нибудь старинной, пусть он сражается с турками и пусть разрывает его выстрелом из пушки… Значит, как говорит автор4, это должна быть какая-то австро-турецкая война конца XVII в.5 Однако если учесть, что один из персонажей романа – доктор Трелони – служил некогда у английского капитана Дж. Кука (1728–1779), то действие романа смещается в XVIII в., и хронология оказывается совсем уж относительной. Сам автор определяет роман как вневременную историю «с едва намеченным антуражем, загадочно-неосязаемыми персонажами и сказочно-детским сюжетом»6.
Место действия также обозначено лишь условно. Сражение, в котором виконт Медардо ди Терральба, «отпрыск знатного генуэзского рода»7, получает свою необычную рану, происходит где-то в Богемии, затем он возвращается на родину, в свой родовой замок, расположенный, видимо, в Лигурии. Несмотря на то, что действие разворачивается примерно в конце XVII–XVIII вв., и на общую историческую неопределённость, в тексте романа присутствуют некоторые отсылки к Средневековью.
Роман открывается картинами войны: император выводит свои войска на сражение с турками. Изображение войны содержит в себе массу отсылок и анахронизмов, а также своеобразных стереотипов и носит явный иронический и сатирический характер. Как точно и лаконично отмечает К. Хьюм, война здесь высмеивается с содроганием (Hume, 1992: 9). В целом, описание ее выполнено в рамках условности, характерной для сказки и рыцарского романа. Присутствуют гротеск и инверсия – И. Кальвино представляет поистине апокалиптическую картину, то есть торжество войны, голода, чумы и смерти. Теперь павшими на полях сражений питаются аисты, так как вороны и стервятники кормились трупами зачумлённых, и болезнь прибрала их8. С другой стороны, функционирование военной машины, система званий, организация распорядка, работа медицинской службы показаны, скорее, в модернизированном виде.
Виконт – это, буквально, христианский рыцарь, который стремится принять участие в сражении с иноверцами под знамёнами императора. Забегая вперёд, можно утверждать, что взаимодействие между христианами и мусульманами, чаще конфликтное, является одним из архетипов, характерным элементом стереотипного восприятия Средневековья, находящим выражение во всех романах трилогии. Точно так же и в благородном статусе главного героя выражается архетип, отсылающий к традиции рыцарского романа: все главные герои трилогии – представители нобилитета. И у Мерардо, разумеется, есть рыцарские атрибуты – конь и оруженосец, но И. Кальвино отмечает, что герой обзавёлся ими лишь недавно, «в последнем попавшемся ему на пути христианском замке»1.
В бою виконта разрывает пополам, и невероятным образом две его половины начинают жить самостоятельно. Правая, сообразно своим дальнейшим делам, получит прозвище Злыдень (Il Grumo), левую люди прозовут Добряком (Il Buono). Сам И. Кальвино неоднократно подчёркивал, что это разделение человека нельзя сводить просто к конфликту «доброй» и «злой» части натуры2. Тем не менее, половины получаются нетождественными, и из их особенностей проистекают основные события романа.
Важным в контексте темы является соотношение действий героев с учётом представлений о прошлом и о современности, которое транслирует автор. Из описания жизни в Терральбе следует, что когда-то могильщик мог прокормиться своим ремеслом, «но то было раньше, во времена бездумной роскоши, войн и эпидемий»3. И. Кальвино обозначает явную дистанцию между тем временем и действием романа.
Однако в Терральбу возвращается виконт, точнее, Злыдень. Сведя в могилу отца, он становится полновластным господином в своих владениях. Он судит разбойников, стражников и проезжих рыцарей несправедливым судом и вешает их всех на огромной виселице, напоминающей Мон-фокон, специально для этого построенной4. Злыдень устанавливает непомерные подати и жестоко мстит тем, кто осмеливается ему возражать5. Виконт, будучи сувереном, применяет прямое насилие, осуществляет право кулака. Рассказчик – мальчик, незаконнорожденный племянник виконта – так повествует об этом: «Время было тяжёлое, крови лилось много…»6. Получается, что череда сплошных смертей, страданий и насилия вернулась, и конкретно – в виде сеньориального произвола, который можно рассматривать как очередной архетип Средневековья, причём в его «тёмной» трактовке. То есть герои романа временно как бы возвращаются в эту эпоху.
В произведении присутствует романтическая линия, пасторальный сюжет – отношения рыцаря и пастушки. Виконт (обеими своими половинами) влюбляется в пастушку Памелу, становится сам себе соперником и в процессе борьбы с собой обретает потерянное ранее единство.
Следующий эпизод, относящийся к этой линии, особо интересен в рамках темы нашего исследования. Памела прячется в лесу от Злыдня, Добряк приносит ей работу, тряпки бедняков на починку и стирку, стараясь приобщить её к своим добрым делам. Кроме того, параллельно он пытается просветить пастушку – читает ей вслух «Освобождённый Иерусалим» Торквато Тассо, сообщая ей тем самым идеализированную героику Средневековья7. Правда, Памела не особенно заинтересована в таком обучении и откровенно скучает, но именно ее шалость спасает Добряка от удара косой, которой Злыдень пытается поразить свою левую половину. Под удар попадает роман Тассо: левая часть книги с корешком остаётся в руке Добряка, правая разлетается на сотни частей. Данный эпизод можно интерпретировать как буквальное столкновение идеала и действительности, как противопоставление в романе двух образов Средневековья: возвышенного, воспринимаемого сквозь призму рыцарского романа Тассо, и «тёмного», воплощённого в лице Злыдня.
Важной фигурой повествования является рассказчик – племянник виконта, ребёнок, который любит играть в лесу. Сосновые иголки у него превращаются в рыцарей, дам, шутов8, и он ликует от бесконечных историй, которые сам себе придумывает. Это, во многом, репрезентация самого Кальвино. Детское мировосприятие, игра и сочинительство (то есть литературное творчество) здесь совпадают, и связаны они оказываются с наивным образом Средневековья.
Второй роман трилогии – «Барон на дереве» – выглядит намного более историчным. И. Каль-вино говорит о нём так: «Заманчивый исторический “пастиш”, этакая вереница картин восемнадцатого столетия, подкреплённая всевозможными датами и отсылками к известным событиям и лицам; пейзаж и природа, разумеется, вымышленные, но описанные ностальгически точно»9.
Разносторонний анализ исторических аллюзий и проблем современности, стоящих за ними, осуществляет И.Р. Хлодовский (Хлодовский, 1984: 11–16). Он достаточно подробно раскрывает элементы, из которых создан роман, акцентируя внимание на его идейной составляющей. Несмотря на то, что, по оценке исследователя, с позицией И. Кальвино по важнейшим вопросам соотношения личности и общества, положения интеллигенции в обществе не всегда можно согласиться, в целом, критик симпатизирует основной интенции И. Кальвино, подчёркивая несомненные достоинства романа и его общую гуманистическую направленность. И.Р. Хлодов-ский полагает, что И. Кальвино не удалось решить его главную творческую задачу, найти правильное соотношение между индивидуальным сознанием и ходом истории (Хлодовский, 1984: 16). Подобным образом Л.З. Антунеш отмечает, что соотношение личности и истории у И. Каль-вино «имеет своей теоретической основой и идеологическим пределом просветительское видение истории» (Antunes, 1986: 106). В такой оценке много верного, хотя ясно, что быть «человеком Просвещения» в XX столетии невозможно – это всегда интерпретация, в случае И. Кальвино – ностальгическая и ироническая, и при этом очень серьёзная.
Так или иначе роман о жизни и деяниях барона Козимо Пьоваско ди Рондо, проведшего бо́льшую часть жизни на деревьях, построен вокруг осмысления и актуализации наследия европейского Просвещения. События происходят в переломный период европейской истории: «старый порядок» уходит в прошлое, наступает новая, революционная эпоха. Но каким же образом в тексте романа присутствует Средневековье?
Знаковой становится ситуация, которая в итоге приводит к необычному решению главного героя – никогда больше не касаться земли. Конфликт с родителями и сестрой вызревал давно, и началом его стала история со статуей Каччагуэрры Пьоваско, одного из их предков1, «доблестного крестоносца, павшего в Святой земле»2. Катаясь по перилам, Козимо случайно разбивает хрупкую гипсовую статую. Получив несправедливое, по его мнению, наказание, он в гневе кричит: «Плевать я хотел на всех ваших предков, батюшка!». Современность отрицает прошлое, образ средневекового предка разрушается буквально.
В остальном Средневековье в романе выступает подспудно, являясь предпосылкой «старого порядка» как такового. Отец Козимо, Арминио Пьоваско ди Рондо, оспаривает у соседа, маркиза д’Ондарива, права на герцогство Омброзское, которое существует чисто номинально и до которого никому уже нет дела. Дворяне теперь селятся в живописных виллах с парками, а не в фамильных замках, все они живут весело, обмениваются визитами и вместе ездят на охоту3, а претензии Арминио на старинные права выглядят нелепо и архаично.
Явная ирония звучит в сюжете про испанских дворян-изгнанников, вынужденных, в силу обстоятельств, временно жить на деревьях. И. Кальвино говорит здесь о «двух телах» короля Испании Карла III: дворяне ненавидят его и в то же время рабски преданны ему, они различают, хотя и не всегда чётко, человека, с которым борются, и титул, который является опорой их собственной власти4.
Есть в романе и конфликт между христианами и мусульманами. Противником являются берберские пираты, которые ещё добираются до Омброзы, но дело их измельчало и «прежних кровавых трагедий уже не случалось»5.
Роман «Несуществующий рыцарь» является третьим по времени написания и первым по времени действия: при переиздании романов в виде трилогии именно его И. Кальвино поставил на первое место. События в нем происходят во времена Карла Великого, то есть И. Кальвино в итоге добирается до того «фундамента», на котором и в отношениях с которым строятся предшествующие романы, – до самого́ Средневековья. Однако изображение его также носит опосредованный характер, поскольку «Несуществующий рыцарь», представляя собой пародийную вариацию на тему рыцарского романа из каролингского цикла, посвящён прежде всего проблемам современного человека и поднимает ряд актуальных социально-философских вопросов.
Почему же внимание писателя привлекает именно эта литературная традиция? Сам И. Кальвино в одном из писем (1964) поясняет, что Роланд и рыцари Карла Великого присутствуют в культуре в Италии даже больше, чем во Франции, поскольку, став значительной частью народной литературы со времён Андреа да Барберино, с конца XIV в. они пустили глубокие корни в фольклоре6. В другом письме (1965) он отмечает, что для написания истории пустого доспеха естественно было использовать традиционный декор каролингского цикла1, и так характеризует значение последнего для итальянской культуры: ещё в XIX в. самой читаемой, а часто единственной книгой в итальянской глубинке были «Короли Франции» Барберино2.
История героев романа, благородных Рамбальда и Брадаманты, Турризмунда и Софронии, тесно связана с другой очень важной фигурой – Агилульфом, рыцарем без тела. И. Каль-вино, таким образом, рассуждает о проблеме существования (экзистенции) современного человека. Роман открывается смотром французского воинства под стенами Парижа, Карл Великий лично объезжает ряды. Здесь происходит знакомство читателя с Агилульфом, и, кроме того, задаётся общий иронический тон повествования.
Французское рыцарство занято войной. На этот раз христианскому воинству противостоят мусульмане-мавры. В статье, посвящённой образу девы-воительницы в романе И. Кальвино, В.Б. Зусева-Озкан выявляет параллели с разными сюжетами средневековой литературы и, помимо прочего, отмечает, что принципиальной чертой мира романа является его неподвижность, неизменность (Зусева-Озкан, 2023: 147). Действительно, роман содержит видение исторического процесса, отличное от рассмотренных выше: первоначально истории как таковой здесь не было вовсе. Кроме того, говоря о современном человеке, И. Кальвино обращается к Средневековью, которое есть «зеркало» современности, но в романе историческая дистанция отсутствует, «отражаемый предмет» совпадает с «зеркалом». При этом завершается роман выходом за рамки внеисторического, прорывом в будущее3.
Образ Средневековья в романе «Несуществующий рыцарь» состоит из огромного числа элементов. Необходимо отметить, что характерным приёмом для его построения здесь является снижение или, по сути, деконструкция героики рыцарского романа. Благородный Рамбальд прибывает в войско, чтобы мстить за отца, но оказывается, что храбрость, ожесточение и мастерство Рамбальда не играют здесь большой роли, куда важнее регламент и распорядок4. Знакомый Рам-бальда, Турризмунд, настроен негативно: всё здесь сплошная мерзость, ни в чём нет смысла, единственная надежда найти настоящих рыцарей – это Орден Грааля5.
Вообще мир романа наполнен вещами, которые не соответствуют принятым о них представлениям. Карл Великий – не слишком велик, в славном войске франков нет особого героизма, а идеальные рыцари Грааля, которых ищет Турризмунд, оказываются на деле самыми страшными разбойниками.
Рамбальд, находясь в ярости от того, что его лишают возможности мстить, видит рыцарей в доспехах как копошащихся насекомых с жёсткими надкрыльями и лапками6. Правда, и сам Рам-бальд перед битвой изображается не лучшим образом – как сплошное нагромождение нелепого, несуразного снаряжения7.
Интересный пример деконструкции образа героического Средневековья показан в описании пира у Карла Великого. Паладины, явно преувеличивая, хвалятся своими подвигами, они как будто сочиняют роман о самих себе. Однако дотошный Агилульф напоминает, как всё было на самом деле, всех поправляет и не позволяет им фантазировать8.
При этом в романе изображается и настоящий героизм (например, сражение Турризмунда с рыцарями Грааля9). Героический компонент образа Средневековья оказывается сложным, полифоничным.
Показательный пример общего описания жизни в Средневековье содержит один из пассажей монахини Феодоры, рассказчицы10. Перечень того, что включает в себя жизнь благородной девушки, жившей в уединённом замке, а потом в монастыре, – явно иронический. Автор изображает ограниченную, жестокую, убогую жизнь, в которой повешения и чума – такая же обыденность, как молотьба и сбор винограда. Этот фрагмент можно рассматривать как стереотипный пример «тёмного» Средневековья.
Представленный выше материал не претендует на полноту реконструкции образа Средневековья в трилогии «Наши предки», однако и на основании изложенного можно сделать некоторые обобщения.
Рассмотренные романы прекрасно иллюстрируют тезис О.Г. Эксле о множественности и противоречивости образов Средневековья в культурной памяти. И. Кальвино рассматривает эпоху через призму истории, литературы и фольклора и сочетает все эти инструменты в разных пропорциях, что в значительной степени обуславливает эту самую множественность.
И. Кальвино не останавливается на какой-то одной, ведущей стороне образа, постоянно совмещая комическое и трагическое, возвышенную лирику и прозу, абстрактно-условное и натуралистичное. Образ Средневековья интересен ему не сам по себе, он не играет в философской рефлексии самостоятельной роли, однако обойтись без него И. Кальвино не может. Логика его размышления о современном человеке и культуре, а также собственный опыт и эстетические предпочтения объективно приводят писателя к созданию и интерпретации самобытного образа Средневековья. При этом И. Кальвино движется от абстрактного в плане историчности романа о виконте Мерардо через более «историчный» роман о бароне Козимо к наименее историчному и наиболее «средневековому» изо всех третьему роману.
В рамках своей литературной игры, не будучи скован условностями, но двигаясь в логике решаемых задач, И. Кальвино актуализирует различные варианты соотношения Средневековья и современности. Для «Раздвоенного виконта» характерна медиевализация последней, в «Бароне на дереве» Средневековье предстаёт как почти эфемерная, далёкая старина. При этом в обоих случаях оно формирует настоящее, присутствует в нём и оказывает на него влияние. В «Несуществующем рыцаре» исторической дистанции нет, при этом само Средневековье значительно модернизируется.
В заключение следует отметить: играя со средневековым рыцарским романом в последней части трилогии, постмодернистски деконструируя его пафос и стереотипы, И. Кальвино вместе с тем фактически осуществляет рецепцию средневекового наследия, традиционную для итальянской культуры.
Список литературы Образ средневековья в трилогии Итало Кальвино «Наши предки»
- Арнаутова Ю.Е. Размышления медиевиста о новом «образе средневековья» // Новое прошлое. 2016. № 1. С. 26–37.
- Зайцев А.А. «Несуществующий рыцарь» Итало Кальвино и послевоенный европейский гуманизм // Общество: философия, история, культура. 2022. № 8 (100). С. 145–151. https://doi.org/10.24158/fik.2022.8.24.
- Зусева-Озкан В.Б. Мифопоэтика образа воительницы в романе И. Кальвино «Несуществующий рыцарь» // Имагология и компаративистка. 2023. № 20. С. 145–170. https://doi.org/10.17223/24099554/20/8.
- Месянжинова А.В. Архетипическая основа постмодернистских культурных моделей (Милорад Павич и Джулиан Барнс) // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2005. № 2. С. 82–91.
- Русанов А.В. Medievalism studies: как изучается «современное Средневековье»? // Vox Medii Aevi. 2019. № 2 (5). С. 12–42. https://doi.org/10.24411/2587-6619-2019-00009.
- Хлодовский И.Р. Об Итало Кальвино, его предках, истории и о наших современниках // Кальвино И. Избранное. М., 1984. С. 5–17.
- Эксле О.Г. Сколько длится Средневековье? // Образы прошлого: Сборник памяти А.Я. Гуревича. СПб., 2011. С. 149–158.
- Antunes L.Z. História e fantasia: «O Visconde Cortado ao Meio» de Italo Calvino // Revista de Letras. 1986. Vol. 26/27. P. 99–108. (на португал. яз.)
- Bacchilega C. Calvino’s Journey: Modern Transformations of Folktale, Story, and Myth // Journal of Folklore Research. 1989. Vol. 26, № 2. P. 81–98.
- De Lauretis T. Italo Calvino: In Memoriam // Science Fiction Studies. 1986. Vol. 13, № 1. P. 97–98.
- Hume K. Calvino’s Fictions: Cogito and Cosmos. N. Y., 1992. 212 p.
- Lollini M. Antropologia ed etica della scrittura in Italo Calvino // Annali d’Italianistica. 1997. Vol. 15. P. 283–311. (на итал. яз.)