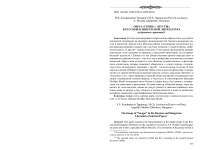Образ «степи» / «пусты» в русской и венгерской литературах (избранные страницы)
Автор: Кондратьева Виктория Викторовна, Ларионова Марина Ченгаровна, Молнар А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 4 (55), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются презентации образа степи в русской и венгерской литературах на примерах произведений А.П. Чехова и венгерских поэтов и писателей, прежде всего Миклоша Месёя. Соотношение поэтических миров проанализировано в рамках двух научных подходов: с одной стороны, мифопоэтического, а с другой - тропологического. Сопоставить произведения авторов, кажущихся столь далекими во времени и смысловой ориентации, не составляет большой трудности. Сближает их как общая языковая картина мира русского и венгерского народов («степь» / «пуста»), так и конкретная поэтическая установка писателей. Образ степи относится к тем объектам художественного и философского осмысления, которые позволяют обнаружить, с одной стороны, генетическую связь литературных традиций, с другой - типологическое сходство. В ходе анализа сначала обобщается развитие образа степи в русском фольклоре, казачьих песнях и в творчестве Чехова на примере повести «Степь», рассказов «Печенег» и «В родном углу», затем приводится краткий обзор венгерской литературной традиции, посвященной степной природе, в частности, в стихотворениях Шандора Петёфи. Месёй интенсивно читал Чехова и, скорее всего, был знаком с упомянутыми его повестями и рассказами. Поэтика повести «Высокая школа» явно вырастает из этого наследия, однако не следует умалять и значение особенного языкового мира ее автора, в силу которого и нагромождаются в повести необычные метафоры, сравнения и персонификации, обновляющие канон.
Степь, картина мира, генетическое и типологическое сходство, а.п. чехов, шандор петёфи, миклош месёй
Короткий адрес: https://sciup.org/149127478
IDR: 149127478 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00111
Текст научной статьи Образ «степи» / «пусты» в русской и венгерской литературах (избранные страницы)
Образ степи в славянской мифологии и фольклоре обладает определенными устойчивыми характеристиками, которые возникли много веков назад. Если обратиться к этимологии слова «степь», то, согласно словарю М. Фасмера, в круг его значений, пришедших из разных языков, входят понятия «вырубленное место», «вытоптанное место», «тянуться, простираться», «вытягивать» «плоский, ровный» [Фасмер 1996, 755-756]. Современные ученые-фольклористы и мифологи определяют степь (поле) как пространство, обладающее признаком бесконечности, безграничности и потому трактуемое как культурная периферия, граница «своего» и «чужого» миров [Агапкина 2009].
Несмотря на то что степь - открытое для всех пространство, широкое и свободное, она абсолютно пуста, в ней почти невозможно встретить человека, а если он там и находится, то чувствует себя в совершенном одиночестве. Даже если степь называется «поле», то это поле «дикое» или «чистое», что свидетельствует о его безграничности и открытости, а также о пустоте и незаполненности. Например, дерево в поле символизирует одиночество, изоляцию персонажа.
Зданий, каких-либо построек или домов в степи невозможно найти, так как люди здесь не живут постоянно. В некоторых народных песнях изображается одинокий шатер в степи. Кроме пустого, чистого поля в фольклоре существует понятие поля и в значении засеянного, живого, которое символизирует плодородие, поэтому в некоторых свадебных песнях можно найти метафорический образ поля, который связан с совершающимся ежегодно вместе с природой круговоротом жизни. Поле в таком случае воспринимается как жизненный путь отдельного человека и семьи в целом. То есть даже «живое» поле может приобретать «степные» харак-

теристики, если связано с мотивами судьбы, испытания, перемены статуса, смерти. Так, в причитаниях поле - место, откуда ждут возвращения близких. В других причитаниях присутствует образ нераспаханного поля как символа смерти хозяина и сиротства детей. Степь - это и иномирное пространство, пустое, порожнее, место испытания героя; в этом качестве степь может быть соотнесена с морем и лесом.
Важнейшую роль степь играла в жизни казаков, так как она была местом их пропитания, встреч и битв с врагами, а также дорогой в дальние края. Образ степи стал одним из центральных пространственных образов в казачьих песнях. В каждой песне степь приобретает какие-то новые черты, ее по-разному характеризуют, и она рождает разные образы, но все они вписываются в парадигму малообитаемой, дикой территории, которая противопоставлена обычной жизни. Пространство дикого поля всегда безгранично и свободно, поэтому очень часто в казачьих песнях мотив воли соседствует с мотивом простора. Кроме экстремального мотива боя, противостояния с врагом, распространен мотив раны или болезни, например, раненого казака. Образ поля, засеянного останками воинов, чаще всего отображается и в исторических песнях. Этот фольклорный мотив перешел и в раннюю русскую литературу. В «Слове о полку Игореве» также встречается сравнение битвы с жатвой-косьбой-молотьбой [Гаспаров 2000, 39-40].
Степь обладает определенным растительным и животным миром. Чаще всего мы встречаем здесь птиц, а именно хищных птиц: ястребов, соколов, коршунов. А.В. Гура называет их «нечистыми», те. дьявольскими и злыми птицами [Гура 1997, 532]. В казачьих песнях сокол имеет «мужскую символику», «соколик» - ласковое обращение к молодцу или любимому, а кукушка - символ судьбы. Но самым важным и необходимым казаку животным является, конечно же, конь, так как дома это его помощник в хозяйстве, а во время битвы - верный друг. Что касается растительного мира, то в основном встречаются однотипные травы, кустарники, кусты и лишь иногда деревья. В казачьей песне нет красивой степи; она, наоборот, выглядит пустой и неяркой, так как к миру человека не относится.
Литература восприняла традиционно-культурные коннотации образа степи. И в индивидуальном творчестве степь - это пустынное место, где человек оказывается один на один с природой, с собой, с Богом. Это территория временной смерти, как пустыня в пушкинском «Пророке». В путешествии по степи пространство приобретает хтонические свойства и атрибуты, а герой преодолевает трудности и трансформируется.
Именно эти смыслы обнаруживаются в повести А.П. Чехова «Степь» (1888), в основе сюжета которой лежит путешествие девятилетнего мальчика Егорушки по бескрайней приазовской степи. Герой находится в состоянии и процессе «перехода», перемены внешнего и внутреннего статуса. Соединение архетипических парадигм детства, путешествия (повесть имеет подзаголовок «История одной поездки») и степи рождает то необходимое художественное качество, которое многим было непонятно, но которое определяет «индивидуальность» повести.
Степи в повести отводится роль дикой местности, в пространстве которой происходит инициация героя [Ларионова 2006]. Егорушка попадает в фантастическое, сакральное пространство, которое, по существу, является «иным» миром. Испытание страхом - одно из испытаний инициации. Егорушка чувствует одиночество, но его обособленность не онтологическая, это обособленность «перехода», временного инобытия. Особое значение в этой связи приобретает болезнь, которую Егорушка переживает в пространстве степи. В контексте пути по степи как инициации она приобретает значение временной смерти. Так, в степном сюжете раскрывается история взросления с неизбежными при этом потерями и обретениями.
Образ степи в повести отнюдь не хаотичен, он выстроен в соответствии с мифологическими законами. Танатологическое значение приобретают и многочисленные орнитообразы. Вероятно, ассоциация птиц со свободой в литературе Нового времени рождена их способностью перемещаться на большие расстояния, но нельзя забывать, что в фольклоре птицы связаны с «иным» миром, со смертью, особенно коршун. Все персонажи, которых встречает Егорушка в степи, в основном, уподобляются птицам. Господин степи Варламов наделен мифологическими чертами хозяина огромных пространств, по которым он кружит, как коршун. Графиня Драницкая вызывает ассоциации с черной птицей. Соломон напоминает мальчику общипанную птицу, Моисей - цаплю. И говорят они на необычном, неизвестном для ребенка языке, почти птичьем: «гал-гал-гал», «ту-ту-ту». Знакомства с обитателями степного мира обогащают мировосприятие мальчика. Они становятся очередными этапами взросления юного героя.
В двух других рассказах А.П. Чехова «В родном углу» (1897) и «Печенег» (1897) акцент делается на мортальной, разрушающей семантике степи. В первом произведении безграничный, величественный мир степи рождает в герое (и в читателе) чувство заброшенности и одиночества. Человек чувствует себя здесь маленьким, потерянным, он не находит себе применения. И главная героиня, Вера Кардина, имея хорошее образование, не понимает, как оно может пригодиться ей здесь, в степи. На протяжении всего рассказа у нее нарастает ощущение одиночества и загнанности. Мотивы скуки, одиночества, разлада и одичания, развивающиеся в рассказе «В родном углу», в «Печенеге» доведены до предела. Сам хутор расположен на припеке, и кругом нет ничего. Степной дом Жмухи-на характеризуют неустроенность, теснота, нечистота, отсутствие уюта. Описание кухни воссоздает картину первобытного хаоса. В этом доме на всем лежит печать старости и запустения, даже икона превращается здесь в темную доску [Кондратьева 2016].
Любопытно, что похожую картину мы наблюдаем в венгерской литературе. Русское слово «степь» в венгерском языке переводится как «sztyep-ре», однако относительно венгерской степной территории и венгерской культуры («пейзажа») используется существительное «puszta». «Пуста» -это облитая жгучим солнцем, травянистая равнина с редкими растени-

ями, используемая в основном для выпаса скота [Barczi, Orszagh 2004]. Как в русском, так и в венгерском языке слово «пуста» связано с пустотой и обозначает также бесплодное, нежилое место: пустыню необитаемую, оставленную неокультуренной. Видимо, в исторической и языковой памяти венгров сохранилось представление о степи, через которую проходили гуннские / венгерские кочевники, и его проецировали на самую крупную, плоскую территорию в Венгрии, которая расположена между реками Дунаем и Тисой. Это «Великая равнина» («Альфёльд») с равниной «Хорто-бадь».
Об укорененности в венгерском менталитете значения «разрушенная и опустошенная территория» свидетельствует и прилагательное «пусто» (то, чего не хватает), в переносном смысле употребляемое как «бессмысленно». В русском языке другое значение венгерского слова «пусто» (то, что только одно единственное) выражается иными словами: например, «чистая правда» или же «голыми руками», «невооруженным глазом».
Интересно, что как в русском национальном сознании и языковой картине мира «степь», так в венгерском - «пуста» функционирует в качестве основного топоса, географического символа идентичности, даже архетипа, получающего широкое развертывание в фольклоре и литературе. Далее будет употребляться именно это слово.
В венгерской поэзии мир пусты становится одним из образов, отражающих особенности национальной картины мира. Пейзажная лирика появляется уже в Возрождении, однако только в Новое время впервые презентируется регион дикого скотоводства и народной жизни - Великая равнина. Открывается новый идеальный мир природы. Заимствовав образы народных песен и песен куруцев (антигабсбургских повстанцев), поэты романтизма с 1830-х гг. объявили пусту топосом свободы. Тема получает развертывание и достигает своего совершенства в творчестве Шандора Петёфи, у которого пейзаж становится не только отражением настроений лирического «я». Образ пусты в его пейзажных стихах отражает национальный менталитет, реализуя различные значения слова. В своих пейзажных стихах, в том числе «В степи родился я» (1844) и «Тиса» (1847), Петёфи стал истинным певцом пусты, ее обширных пастбищ и поэтической красоты миражей. Бесконечная степь часто называется у поэта также словом «рона» (шаг) от славянской «равнины». Поэт узаконил в литературе народный венгерский язык, создавая с его помощью свое новое слово и оживляя канон пейзажной лирики.
В первом выдающемся произведении Петёфи о Великой равнине -«Альфёльд» (1844) - противопоставляются два типа ландшафтных идеалов: романтически дикие горы Карпат и реалистический образ низменности Альфёльда. Лирическое «я» предпочитает обширную равнину, в пространстве которой чувствует себя свободно и дома. Такой подход к ландшафту является новым. Меняя точки зрения, поэт демонстрирует солнечную и бесконечную пусту, с одной стороны, вертикально, с высоты, с позиции орла, выпущенного из тюрьмы, а с другой - в горизонталь- ной плоскости, в которой видны пастухи и табуны, дикие гуси и ящерицы, травки и колосья пшеницы, постройки, в частности, фермы, чарды (кабаки) и колодец с журавлем.
Уже из этой детализации ясно, что часть территории Великой равнины, именуемая Кишкуншаг («малая кунская / половецкая земля»), особо ценна для поэта. В стихотворении «Кишкуншаг» (1848) сильнее проявляется радость иметь убежище от вечного шума большого города. Поэт не дает объективного описания пусты, а с помощью антропоморфизации (колодец) и инновативных метафор («кровоточащая звезда») полностью субъективизирует ее.
В элегическом стихотворении «Степь зимой» (1848) в изображении степного ландшафта доминируют негативные акценты. Зимняя пуста в этом произведении контрастна «Альфёльду». Петёфи употребляет разные значения и формы слова «пуста» (в дословном переводе: «Теперь по-настоящему пуста эта пуста!»). Только по недостающим деталям пейзажа (вымершей природы) можно догадаться о том, что здесь на самом деле имеется. В стихотворении приводится и народный образ героя пусты: разбойника, выпавшего из общества («бетьяра», ср. «казака»). Он -единственное живое лицо в пусте, но его свобода дается лишь за счет его одиночества, рядом с ним его конь и другие изгои: волк и ворон. Плоская равнина сопоставляется с замерзшим морем. Заходящее солнце персонифицируется также как изгой: оно - «изгнанный король», и, согласно метафоре, с его «главы кровавый катится венец». Изначально солнце предстает как усталая птица и как согбенный старик. Эта развернутая метафора уникальна в венгерской литературе, точно так же как и сближение каждого сезона с хозяином или хозяйкой. Например, осень предстает плохим фермером, утрачивающим свое богатство.
Соратник Петёфи, Янош Арань, подробно описывает Великую равнину в первой песне своей поэмы «Тольди» (1847), не разоблачая романтический образ пусты. У него земля - солончак, прожженный жаркими лучами солнца, на котором встречаются лишь испытывающие жажду насекомые. В стихотворениях же великого поэта XX века Эндре Ади степной пейзаж - «угар» (необработанное поле под паром) - вовсе является символом венгерской отсталости. В произведениях «народных» писателей представлены и превратности пастушеской жизни. Мир фермеров более грубый, жестокий и варварский, чем тот, что был известен раньше в литературе. Нищета и разбой сопровождают образ пусты у знаменитого венгерского прозаика Жигмонда Морица. Одно из самых значительных социографи-чески-литературных произведений - это «Люди пусты» (1936) Дьюлы Ий-еша, в котором рассказывается о неграмотных и нищих пастухах и фермерах, придерживающихся древних, «азиатских» обычаев помогать друг другу или сводить друг с другом счеты.
Однако образ пусты наделяется в венгерской литературе и философским содержанием. Выдающийся поэт XX века Аттила Иожеф в своей лирике формулирует трагедию человеческого существования (одиноче-
ство, безысходность, страдания) посредством системы метафор, в центре которой стоят мороз, снег, тишина, мрак и т.д. Таким же предстает бедный фермерский мир в редких его стихотворениях, не посвященных городу.
Ввиду сказанного следует обратиться и к образу степи, созданному в одной из самых известных повестей крупного венгерского писателя второй половины XX века Миклоша Месёя «Высокая школа». В повести по законам репортажа писатель приезжает на экспериментальную ферму, на которой обученные соколы истребляют птиц (цапель и ворон), уничтожающих запасы рыбного хозяйства. Он познает тяжелую и, как ему кажется, дисциплинированную жизнь этой среды, работая здесь и стараясь влиться в коллектив.
Образ фермы в пусте нельзя рассматривать как реалистическое описание Месёем пространства. Творчество прозаика опирается на экзистенциальную философию и поэтику абсурда, нового романа и магического реализма, а данная повесть прочитывается на разных уровнях структуры как аллегория власти, коммунистической диктатуры, экзистенциалистской тоски [см. Beladi 1983; Karatson 1994; Thomka 1995; Szentesi 2006; Szollath 2018]. На наш взгляд, «Высокая школа» является выдающимся произведением венгерской литературы в силу уникальной метафоризации, которая особо проявляется в образе пусты. Частью этого образа являются птицы, лошади, грызуны и т.п. В статье мы обращаемся только к некоторым природным образам и рассматриваем их под углом зрения метафорического плана.
Если сопоставить изображение пусты в повести М. Месёя с литературной традицией, сразу же бросается в глаза ее новаторское переосмысление. Здесь встречаются традиционные элементы, связанные с образом степи (солнце, небо, солончак, пустота, одинокий орел и т.д.), однако они обрастают совершенно новыми смыслами, следовательно, пуста предстает не как топос свободы, дома или нищеты.
В первых же характеристиках пространства и времени встречается множество тропов. Природные явления (туман, лучи солнца) олицетворяются неожиданно и оригинально. Туману присваиваются признаки рыбы (плавает) и птицы (сизый). Лучи пронзают туман, подобно удару клюва птицы или ножа (металл), с помощью которого человек разделывает жертву - корм для соколов. Более того, лучи наделяются такими действиями, которые традиционно относятся к молнии (вспыхивать, гаснуть). Предикат «искриться» также неожиданно сочетается у Месёя с азбукой Морзе. Электрические искры автор ассоциативно связывает с телеграфными сигналами. Безлюдие, пустота степи становятся еще более невыносимыми оттого, что небо будто закрывает человека, а солнце сильно печет, ослепляя его. Месёй создает парадоксальную ситуацию: ощущение ограниченности пространства вызывает невыносимый свет, световую стену.
Встреча природного явления (ветра) и человеческого артефакта (телеграфные провода) рождает неприятные звуки, которые в толковании заведующего фермой равнозначны пению, а согласно мнению некой приезжей столичной дамы - музыке. В тексте же звук завывающего ветра определяется как «фальцет». Провода (проволока) являются причиной смерти двух соколов: они блестят так сильно, что ослепляют даже птиц. Заведующий фермой говорит об этом событии, устанавливая параллель между человеком и птицами при помощи стертой метафоры, согласно которой глаза застилаются туманом. Итак, блеск металла сближается с яростью человека, а по признаку ослепления человек сближается с птицей. Проволока появляется не только в описании средств коммуникации, но и как материал для сеток, держащих живой корм для соколов в рабстве. Обильно кормят на ферме лишь хищных птиц, причем постоянство времени кормления уподобляется движению солнца в небе.
Одной из примет пусты становится ветер, который обычно связан с представлениями о свободе. И здесь движению ветра ничто не препятствует, потому что все подчинено главной задаче фермы - воспитанию соколов, и нужно, чтобы их хорошо было видно из дома. Но в жаре и духоте ветер не приносит облегчения. Сквозняк наполняет кухню дымом. Тереза готовит на ужин рыбу, чешуя которой поблескивает. Женщина как будто не обращает внимания на жару и не ожидает ничего необычного. Угли искрятся так, что напоминают азбуку Морзе. Отметим, что этот же предикат блеска употребляется как атрибут и в связи с прудами, лучами и молниями. Таким образом, телеграф и гроза словно сближаются. Пруды же характеризуются металлическим блеском (рябь воды) - возможно, от чешуи рыб. Пруды и озера в пусте посредством метафор и сравнений предстают высохшими, окаменелыми, мертвыми. Растения вымерли и сравниваются с человеческими артефактами, с трупами, а ил - с камнем. Растения сближаются также с острыми предметами, напоминающими лезвие. Такие признаки присваиваются и человеку. Человек, страдающий от зноя, словно сливается с неживым, «металлическим» образом природы: капля пота на лбу выглядит тяжелой, как ртуть. В пусте напрасны мечты о воде как райском изобилии.
Пустота и засуха, образы смерти определяют окружающий мир, и герою не хватает здесь ни животворящей воды, ни места для укрытия от палящего солнца. Невыносимая жара наполнена тайными звуками, а небо становится отражением или двойником «голой степи», пусты-прерии, в которой также нет движения, кроме игры вертикалей. Говорящий отождествляет свое «я» с единственным глазом, в котором небо не отражается (макрокосм), а оказывается замкнутым. Все остальное - пустота, метафора которая развертывается в паутинную сеть, запутывающую все, следовательно, и пролетающие птицы определяются как «явления пустоты». Они будто надевают на себя маски, и герою в засаде грезится, что птица-жертва (голубь) становится свободной, а птица-легенда (сапсан) поймана им.
«Мертвая» духота сопоставляется с клещом, который мешает человеку и вместе с тем предвещает нечто «крайне запутанное», т.е. путаница (пустота и одиночество) присваивается и событию. Этим событием будет гроза, уносящая жизнь нескольких соколов. Писатель-герой постепенно разочаровывается в своих прежних ожиданиях из-за кровавых убийств животных, а эти смерти в буре окончательно подталкивают его к принятию решения покинуть ферму Он уезжает домой, где напишет повесть о своих впечатлениях.
Итак, в венгерской поэзии мир пусты (степи) - это романтический мир, отражающий национальный колорит и экзотику, однако это и мир вольности и жестокости. Здесь, как и русской литературе, пуста (степь) - это топос, художественное пространство, в структуру которого входят строго определенный круг персонажей, сюжетов, объектов материального мира, локусов и определенных смыслов, которые персонажам и объектам присваиваются.
В повести Месёя «Высокая школа» на первый план выходит мортальный характер пусты. Это пугающий мир, безжизненный, подобный тому, который мы встречаем в рассказах Чехова «Печенег» и «В родном углу». Однако имеются и явные переклички с повестью «Степь». У венгерского писателя пуста изображается как место, противостоящее человеку. Человек теряется в безграничности, а степь, в свою очередь, подчеркивает его слабость и одиночество.
Список литературы Образ «степи» / «пусты» в русской и венгерской литературах (избранные страницы)
- Агапкина Т.М. Поле // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. Т. 4. М., 2009. С. 133-137.
- Гаспаров Б.М. Поэтика «Слова о полку Игореве». М., 2000.
- Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.
- Кондратьева В.В. Степной мир в рассказах А.П. Чехова: структура и семантика // Историко-культурный и символический облик провинции в творчестве А.П. Чехова. Ростов н/Д, 2016. С. 264-285.
- Ларионова М.Ч. Миф, сказка и обряд в русской литературе XIX века. Ростов н/Д, 2006.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 3. СПб., 1996.
- Barczi G., Orszagh L. A magyar nyelv értelmezo szotara. 5. kotet. Budapest, 2004.
- Béladi M. Helyzetkép. Vazlatpontok a mai magyar szépprozârol // Béladi M. Valaszutak. Budapest, 1983. P. 509-548.
- Karatson E. Mészoly Miklos és a camus-i kozérzet // Karatson E. Baudelaire ajandéka. Pécs, 1994. P. 297-308.
- Szentesi Z. Az autentikus létezés lehetoségei a valasztas jegyében // Irodalom-torténeti Kozlemények. 2006. № 3-4. P. 392-415.
- Szollath D. A Magasiskola ot olvasata // Jelenkor. 2018. № 61. P. 1169-1175.
- Thomka B. Mészoly Miklos. Pozsony, 1995.