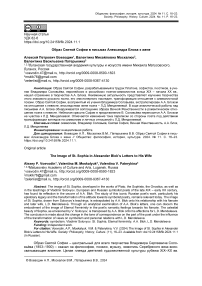Образ святой Софии в письмах Александра Блока к жене
Автор: Воеводин А.П., Москалюк В.М., Патерыкина В.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Образ Святой Софии, разрабатываемый в трудах Платона, софистов, гностиков, в учении Владимира Соловьёва, европейских и российских поэтов-символистов конца XIX - начала XX вв., нашел отражение в творчестве А.А. Блока. Неизменную актуальность представляет изучение творчества этого знакового русского поэта, его эпистолярного наследия, трансформации отношения к символистской поэзии. Образ Святой Софии, воспринятый из учения Владимира Соловьёва, экстраполирован А.А. Блоком на отношение к невесте, впоследствии жене поэта - Л.Д. Менделеевой. В ходе аналитической работы над письмами А.А. Блока обнаруживается воплощение образа Вечной Женственности в романтическом отношении поэта к невесте. Небесная красота Софии в представлении В. Соловьёва переносится А.А. Блоком на чувства к Л.Д. Менделеевой. Отмечается изменение тона переписки со стороны поэта под действием трансформации взглядов на символизм и личных отношений с Л.Д. Менделеевой.
Символизм, владимир соловьёв, святая софия, вечная женственность, а.а. блок, л.д. менделеева
Короткий адрес: https://sciup.org/149147056
IDR: 149147056 | УДК: 82-6 | DOI: 10.24158/fik.2024.11.1
Текст научной статьи Образ святой Софии в письмах Александра Блока к жене
,
,
1,2,3Matusovsky Academy of Culture and Arts, Lugansk, Russia ,
,
находилась под властью идей материального воплощения Святой Софии в метафизическую сущность, представленную в реальности как основа мира с возведенными в культ Вечной Женственностью, Душой мира, выразившими объединение Бога с земным началом. Александр Александрович Блок находился под влиянием соловьёвских идей о единстве логических начал и мистических настроений, без которых немыслима вся полнота постижения бытия. Знакомство, состоявшееся весной 1901 г., личная дружба Владимира Соловьёва и Александра Блока отразились в ранней поэзии последнего и в его эпистолярном наследии, включающем 2 500 писем, из них 317 – адресовано невесте, а затем и жене – Любови Дмитриевне Менделеевой.
Актуальность исследования обусловлена непрекращающимся вниманием к символизму Серебряного века, состоявшемуся во многом под влиянием мистических идей Вл. Соловьёва. До периода переосмысления взглядов философа-поэта и отказа от них А. Блок переносил идеи Святой Софии, Вечной Женственности, Подруги Вечной на образ Любови Дмитриевны Менделеевой – невесты, а впоследствии и жены поэта.
Письма периода 1902–1903 гг. дают материал для анализа воплощения образа Святой Софии на отношение к Л.Д. Менделеевой вследствие увлеченности поэта идеями всеединства, теософии, Вечной Женственности в Боге, Света как первоосновы Бытия. При аналитике эпистолярного наследия поэта прослеживается изменение тональности обращения А. Блока к жене, что было обусловлено рядом причин: переосмыслением учения Вл. Соловьёва, кризисом личных отношений с Л.Д. Менделеевой. Актуальность темы определяется глубиной неисчерпаемых смыслов, заложенных в поэтических студиях А. Блока и связанных с поисками своего идеала Божественного космоса, явленного через Святую Софию.
Целью статьи является аналитика проявления образа Святой Софии в письмах Александра Блока к Любови Менделеевой, которую поэт возводит в Абсолютную Вечную Женственность, воспринимая как Таинственную и Вечную Деву, Владычицу Вселенной, Величавую Вечную Жену, лучезарное видение. Кроме того, работа предполагает констатацию ухода А. Блока от образа Святой Софии в письмах к жене в связи с пересмотром идей философа-поэта Вл. Соловьёва и тех отношений, которые переживала семья поэта после 1907 г.
Философско-поэтические размышления Вл. Соловьёва послужили своеобразными скрепами между идеями символического восприятия мира второй половины XIX и начала XX вв. Эрнест Львович Радлов, отмечая значимость учения Вл. Соловьёва, писал о нем как об основателе русской философии, учителе жизни, постоянном идейном источнике для русской мысли. Найдя продолжение в философии П. Флоренского, С. Франка, Л. Карсавина, Н. Лосского, поэзии В. Брюсова, Д. Мережковского, З. Гиппиус, Ф. Сологуба, А. Добролюбова, К. Бальмонта, М. Волошина, Вяч. Иванова, И. Анненского, В. Хлебникова, А. Блока, А. Белого, музыке А. Скрябина, С. Рахманинова, И. Стравинского, живописи М. Врубеля, М. Нестерова, Н. Рериха, В. Борисова-Мусатова, идеи Вл. Соловьёва на десятилетия определили вектор российского символического искусства.
Влияние Вл. Соловьёва на творчество символистов, и, в частности, на мировоззрение и поэзию Александра Блока изучал К.Г. Исупов (2001). Миропонимание символизма обосновал Андрей Белый – представивший в прозаических и поэтических произведениях идеи этого направления (Белый, 1994). Теургические связи поэта исследовал И.М. Машбиц-Веров (1969). Формальный и содержательный элементы философской лирики символистов Серебряного века анализировал Я.Ю. Петрык (2021) и ряд других ученых. Образ Святой Софии в лирике Вл. Соловьёва и А. Блока дифференцируется такими исследователями, как Н.П. Крохина (2012). Зарубежные ученые разрабатывают в числе прочего темы преодоления соловьёвства Александром Блоком (корейский филолог Ким Ын-Чжун1).
Существующий пласт исследований нельзя охарактеризовать как исчерпывающий, что объясняется неизбывным интересом к символическому искусству Серебряного века, его истокам, трансформациям идей его деятелей. Сама тема соловьёвских размышлений над образами Вечной Женственности, Теософии, Теургии, Теократии приобретает различную окраску в зависимости от социально-исторических условий прочтения его текста, преломления через поэзию, в частности, Александра Блока. Исповедальные письма поэта к невесте Л.Д. Менделеевой пронизаны предчувствием социальных потрясений, спасение от которых возможно в любви и прекрасном, воплощенных в Вечной Женственности. Послания представляют для исследования благодатный материал понимания трансформации общественно-значимых и личных взглядов поэта.
Для русских символистов поэзия становится настоящим постижением мира, поскольку логическое мышление не может охватить всю сущность бытия. Подлинную красоту мира постигает только поэзия с ее непривязанностью к материальным формам, а с соединением с областью мистического, художественно-образного смысла. Основу русского символизма составляет центральный образ образов учения Вл. Соловьёва – Вечная София, Мировая Душа, Дева Радужных
Ворот, жена, облаченная в Солнце, незримое духовное начало. Осмысление образа Святой Софии состоялось до видения этого образа Вл. Соловьёвым через поэзию А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, философию Артура Шопенгауэра, Фридриха Ницше, под влиянием творчества которых оформился символизм философа-поэта.
Триады «Русалка – Божья Матерь – София» и «Вестничество – Пророчество – Творчество» иллюстрируют историко-хронологическую смену образа Софии, апеллируя к познанию мира через эмоциональное одухотворение бытия. Воплощение истинно-сущего, в интерпретации Я.Ю. Пет-рык, становится для философских воззрений русских символистов основной эстетической проблемой (Петрык, 2021).
Обоснование софийности осуществлялось Вл. Соловьёвым в прозаической и поэтической формах («Три встречи», «Милый друг», «Близко, далёко, не здесь, и не там… », «У Царицы моей есть высокий дворец», «Песня офитов» и другие). Но именно поэзия Владимира Соловьёва не находит однозначной позитивной оценки среди культурологов, литературных аналитиков. Так, Ф. Степун в труде об образах русского символизма отмечает, что Владимир Соловьёв не создал собственной уникальной поэтической формы (Степун, 2012: 28). Противоположную точку зрения высказывает А. Козырев, подчеркивая значение поэзии В. Соловьёва как манифеста мироощущения нового поколения символистов (Козырев, 2007: 201). Такие антагонистичные оценки поэзии связаны с желаниями философа именно в поэтической форме выразить знаки соединения двух миров – небесного и земного. Но не всегда поэтическая строка, ритм, рифма могут вместить глубину философских размышлений, изложенных в прозе. Сжатые условиями рифмованной поэзии строки несут, тем не менее, скрытый символический идеал.
В изысканиях влияния поэзии Вл. Соловьёва на творчество А. Блока И.М. Машбиц-Веров отмечает, что поэт у своего учителя берет как основной образ Святой Софии – спасительного начала с ожиданием прихода Красоты и Добра в обличье Вечной Женственности. Через символы, предложенные Вл. Соловьёвым, А. Блок находит выходы из темноты к свету, а следовательно, ко всеобщему благу. Религиозная сущность поэзии воплощена у А. Блока в образе Софии, несущей свет и любовь и противостоящей мраку земного бытия (Машбиц-Веров, 1969). Мысль Д.С. Мережковского о невозможности логического знания исчерпать всю полноту познаваемости бытия (Мережковский, 1999: 212) выразила мировоззренческий ракурс гносеологии символизма.
Как отмечает А.А. Алексеева, П.П. Перцов, главный редактор журнала «Новый путь», ориентированного на религиозно-философскую публицистику, говоря о преемственности идей ушедшего из жизни в 1900 г. Вл. Соловьёва законным его наследником назвал А. Блока. По его замечанию, последний стал прямым продолжателем соловьёвских традиций – поэзия русского философа словно «воскресла» в творчестве Александра Блока (Алексеева, 2013).
Абсолютизация роли наставника русских символистов в лице Вл. Соловьёва вызывает сомнение у ряда исследователей. Так, К.Г. Исупов, анализируя философию и литературу Серебряного века, утверждает, что создание мифа о прямой преемственности идей Вл. Соловьёва принадлежит самим символистам (Исупов, 2000: 77).
Тем не менее понимание софийности Вл. Соловьёва и А. Блока разнится: у Вл. Соловьёва – это обретение истины через очищение со сведением к мировой и собственной катастрофе, у А. Блока – это предчувствие катастроф Святой Софии, которое именно он ввел в литературу Серебряного века (Крохина, 2012). Сквозь трагизм обреченности у А. Блока сквозит ощущение лазоревого света, вечного Солнца, сверкающих далей – проявленных символов соединения небесного и земного. Сегодняшний день (софийность) и завтрашний (антисофийность) определились как противоречие между ранним мистическим творчеством поэта и зрелым периодом его отхода от соло-вьёвства.
Для философа цель и смысл жизни заключаются в любви, в которой наиболее полно проявляется индивидуальность, цельность натуры, победа над смертью в виде мистической вечной жизни (Соловьёв, 1988: 44). Последнее через Любовь выражается А. Блоком в ряде писем. Так, в послании от 29 января 1902 г. он обращается к Любови Дмитриевне Менделеевой с уверениями в полнейшем повиновении ей, поскольку она – неподвижное Солнце Завета. Его жизнь немыслима без «Исходящего» от нее1 к поэту пока еще не познанного им Духа. В этом письме он обращается к невесте как к богу, спасению и последнему утверждению, с которым связана жизнь. Тождество невесты и Любви в мистическом восприятии поэта очевидны, без них все дальнейшее представляется как гибель. Сам А. Блок верит в завершение обыкновенного и начало необыкновенного его состояния, поскольку Судьба мистически прописала его будущее и настоящее. Тайну Высшего Добра, которое не похоже на обыкновенное, поэт передает любимой2. Ему самому неведомы источники жизни и смерти, но в тайне, которую поэт желает передать возлюбленной, заключено устройство жизни, корень добра и зла. С Любовью Менделеевой поэт не раз говорил о смерти, воплощенной на Земле в Идее самоубийства. В письме, написанном между 5 и 7 февраля 1902 г., А. Блок доверяет ей одной тайну, непонятную многим людям, – о Высшем Добре.
Однако такое возвышение и мистическая восторженность не разделяются невестой. В неотправленном письме, датированном октябрем 1901 г., Любовь Дмитриевна пишет А. Блоку о чуждости друг другу, о непонимании поэтом ее состояния. Она объясняет ему несоответствие его фантазий, фантастических фикций действительности, говорит об отношении к ней как к отвлеченной идее, за которой поэт не замечает живого человека. Идеализация была ей невыносима, оскорбительна, чужда. Она не могла простить того, что А. Блок поднимал ее на такие высоты, где «холодно, страшно и … скучно»1. Трагедия самого поэта наметилась в оторванности его воображения от реалий, в абсолютизации девушки с земными потребностями до образа Таинственной Девы, Вечной Девы, Владычицы Вселенной, Величавой Вечной Жены, лучезарного видения.
Письмо от 10 ноября 1902 г. содержит как раз такие восторженные эпитеты возлюбленной, которые пронизаны мистической экзальтацией. Поэт, обращаясь к Любови Дмитриевне «моё Солнце, моё Небо, моё Блаженство», продолжает в духе мистицизма ее возвеличивание, отказывая в земном имени. Он пишет о том, что «Тебе нет имени. Ты – Звенящая, Великая, Полная, Осанна моего сердца бедного, жалкого, ничтожного»2. Для поэта возлюбленная есть Первая тайна и Последняя Надежда, которой принадлежит вся жизнь без изъятия от начала до конца. Бесконечное Совершенство не имеет границ и преград, заполняя все пространство; даже убийство не покажется серым, поскольку будет исходить из этого Первого и Последнего начала. Неизреченная Красота возлюбленной женщины у А. Блока идентична с представлениями Вл. Соловьёва о женском предназначении. Сверхчувственный мир, постигаемый верой, преобразит человечество через Мировую Душу в образе Вечной Женственности. Гармония мира, его спасение принадлежат Вечной Жене, Деве, миссия которых и у Вл. Соловьёва, и у А. Блока совпадают. Поэты предчувствуют грядущий апокалипсис, но Вл. Соловьёв не застает его в силу ухода из жизни в конце XIX в., а А. Блоку предстоит пережить революции, войны начала XX в., однако это не помешало ему призывать в январе 1918 г. всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушать Революцию. Одухотворенное начало Вселенной и образ Любови Менделеевой у А. Блока отождествляются как спасительное нетленное начало.
Любовь преодолевает апокалипсис в философии и поэзии Вл. Соловьёва, для А. Блока это чувство – жизнь, которую дает ему Вечная Женственность. 12 ноября 1902 г. он пишет Л.Д. Менделеевой, приближаясь к Вечной Неподвижной Правде, об отождествлении ее с Зарёй, с Любовью3.
С Полной и Совершенной Красотой, которую он видит в невесте, поэт хочет говорить и о небесном, и о земном в письме от 14 ноября 1902 г.4, поскольку она – его Вдохновение. Любовь перерождает поэта, давая чувства юности, новизны, мудрости всего существа. Он разделяет эти два понятия – чувства, которые перегорают в сознании, и мудрость, которая остается при нем. Поэт обращается к любимой невесте как к Обетованной Земле, где совершится страшный суд, который должен закончиться победой добра над злом. Любовь и милосердие Мессианской эры должны принести всеобщее благоденствие народам мира, а личности – высоту смысла духовных исканий. Для А. Блока Святая Земля в метафорическом измерении – его искания, тот желанный предел, который связывается с образом Нового Торжества Очаровательной, Волшебной, Прелестной невесты. Первая Истина – ощущаемая, но не понятая поэтом, это есть сама Жизнь. Для поэта невеста – это Закон Бытия, который нельзя нарушать, пределы, которые нельзя переступать.
Еще одно обращение к Л. Менделеевой в письме от 15 ноября 1902 г. – Белая Голубица – символ, имеющий ряд значений: образа Девы Марии, вечной непорочности, Духа Святого. Связующим звеном между двумя сферами – видимой и невидимой – выступает белый голубь, сообщая о присутствии Бога его сторонникам, согласно Библии. Чистота помыслов, преодоление терзаний духа, наступление мира, смывание грехов при прощении Иисусом – символы, представленные этим образом в христианстве. Поэт в Белой Голубице видит возлюбленную, наделяя ее мистическим даром. Обращаясь к невесте «Ангел моего Завета», поэт возносит ее до посланника Божьего – Иисуса Христа, в книге «Исход» (23: 20–21) называемого Ангелом и имеющим божественную природу5.
В письме от 17 ноября 1902 г. А. Блок признается, что не может мыслить без страха о возлюбленной, поскольку она «Святая, Великая, Недостижимая». Он овеян ее «Великими Снами» и пребывает в состоянии между сном и явью6. Ночь и день разделены, и у каждого времени суток идет своя жизнь – то, «что бывает ночью, того не может быть днём»1. Сон – уход в другой мир образов, королевская дорога в бессознательное, по З. Фрейду (Фрейд, 2022). «Ни одно совпадение не бывает случайностью»2. Все закономерно, и причина этого – провидение, творец. «Прежде я видел Тебя в вещих снах. Такие странные и яркие, большей частью осенние, и потому я люблю осень и Тебя…»3. «Божественная, Милая, Ласковая» – так обращается поэт к невесте в письме от 18 ноября 1902 г., в котором проявляется соединение неземного состояния и отношение к вполне реальной девушке.
«Солнце моего Мира», которым живет поэт (письмо от 20 ноября 1902 г.)4, «немеркнущая, мой голос, мой дух, мой Восторг» (письмо от 15 декабря 1902 г.)5 – такие характеристики свидетельствуют о возвеличивании возлюбленной до космических масштабов.
14 декабря 1902 г. А. Блок пишет стихотворение «Царица смотрела заставки», которое 15 декабря 1902 г. отправляет в письме к Любови Дмитриевне. Стихотворение навеяно народнопоэтическим преданием о Голубиной, или Глубинной, книге. В ней сосредоточилась церковная мудрость русского средневековья, содержащей предание об упавшей с неба на землю книге мудрости. Ее глубина сопряжена с символом Духа Святого, передавшего на землю подтверждение присутствия Бога, согласно христианскому вероучению6. Поэт в этом стихотворении использует символы воркующей птицы – Духа Святого, Царевны-Невесты, золотые, красные, синие, лазурные, белые цвета, обыгрывая сюжет: «Отворилось облако высоко, / И упала Голубиная Книга. / А к Царевне из лазурного ока / Прилетела воркующая птица7. Уже на следующий день в письме от 16 декабря 1902 г. поэт пишет, что через неземную любовь к невесте ему открывается смысл книг, трактующих вечное (Библии, Голубиной книги, учения ранних греческих философов), поскольку он находит в них изображение возлюбленной. Поэт постигает то, что уже воспринято многими в масштабах вселенской мистики8. В христианстве она есть дар Божий, поскольку ее источником выступает Бог, а основанием – вера в Иисуса Христа. Само понимание этих православных мистических истин у поэта связано с неземными чувствами к невесте и только благодаря им происходит мистическое озарение.
Для А. Блока мистицизм, ассоциирующийся с неземным и засферным, есть самое лучшее, что у него было, позволившее перечувствовать все события ярко, красиво, глубоко, таинственно, религиозно. И стихи, и любовь, по убеждению поэта, идут от мистики, от религиозного сознания, от нерушимых живых связей друг с другом и с Неведомым (письмо от 22 февраля 1903 г.)9. А. Блок уверен в том, что в каждом человеке живет мистицизм, проявляющийся у неверующих в него в экзистенциальном состоянии. Приверженцы же его чувствуют связь с Иным в течение всей жизни, как и сам А. Блок, для которого мистицизм есть его природа10. Он раскрывает перед поэтом новые знания: «Влад<имир> Серг<еевич> Соловьёв, человек редкой учености и энциклопедической образованности, по ночам плакал и молился розовой тени»11, отмечая на примере своего учителя и друга соединение знания и веры.
Поэт наделяет любимую силой Лазури, которая есть проявление истинного бытия (письмо от 18 декабря 1902 г.)12. Она для него все не только «здесь», но и «там», занимающее пространство Вселенной и приравненное поэтом к Богу (письмо от 23 декабря 1902 г.)13. «Ангел светлый, Ангел Чистый, моя Судьба. Моё Всё… Целую Твоё платье», – пишет поэт в письме от 28 декабря 1902 г., деля всех людей на нее и тех, кто не она14. Первопричина раскрывшейся энергии будущего, уходившей в бессознательное, поэтом видится в Любови Дмитриевне, в ее глубокой силе истинной жизни (29 декабря 1902 г.)15. Ту же самую мысль поэт проводит в письме от 31 декабря 1902 г., в возвышенном мистическом тоне говоря о том, что Любовь Дмитриевна в период сомнений поэта брызнула в его глаза ослепительным светом Истины, Добра и Красоты. «Ты учишь меня счастью. Я учусь, но “никогда не буду выше Учителя”16»17.
В символизме белый цвет олицетворяется с непорочностью, чистотой помыслов, Девой Марией, божественным началом. Символисты Серебряного века в нем усматривали синоним света. Андрей Белый, взявший этот цвет в качестве псевдонима, в статье «Священные цвета» называет его символом воплощения полноты бытия (Белый, 1994: 213). Александр Блок называет невесту «Светлая Радость» (письмо от 30 марта 1903 г.)1. А в письме от 08 апреля 1903 г. усиливает значение белого цвета, перенося его на стены Нового Иерусалима, Невесту Христову, цветы, распускающиеся ночью в тех странах, которых нет. Белизна внутреннего Света его возлюбленной трактуется им как Знак ее божественной благодати. Во всей природе поэт видит Символ ее, идущей «в сумерках по белым ступеням»2. Белая Невеста, о которой поэт думает, дышит и живет ею, созвучна с Невестой Христовой, Вечной Девой, Премудрой Софией3. А. Блок олицетворяет невесту с целым спектром образов, не ограничиваясь символикой только белого цвета, что присуще поэзии Вл. Соловьёва. В письмах встречаются розовый, изумрудный, огненный цвета. «Твоя Розовая Тень… Ты – Певучая, Ласковая, Розовая» (письмо от 01 мая 1903 г.)4; «Изумрудная Дева» (письмо от 16 мая 1903 г.)5; «Моя Огненная Царевна, Моё Зарево» (письмо от 27 июня н. ст. 1903 г.)6. Венец из имени «Любовь» помогает чувствовать поэту небесное и земное, бесконечность, прощать одушевленные и неодушевленные существа в ожидании завтрашней Девы (письмо от 16 мая 1903 г.)7.
Из Бад-Наугейма поэт пишет о том, что считает свою невесту Девой Марией (11 июня н. ст. 1903 г.)8, Ангелом Светлым, Ангелом Величавым, Богиней его земных желаний (13 июня н. ст. 1903 г.)9, Голубиной Чистотой (18 июня н. ст. 1903 года)10, Искрой божественной, Девой, Богородицей, Матерью Света (19 июня н. ст. 1903 г.)11.
Апофеозом чувств, выраженных в письмах этого периода, является послание от 17 июня н. ст. 1903 г., в котором поэт обращается к возлюбленной, называя ее «Милая», «Единственная», «Ненаглядная», «Святая», «Несравненная», «Любимая», «Солнце моё», «Свет мой», «Сокровище моё», «Жизнь моя – или лучше без имён… звёздно люблю, люблю всемирной любовью Тебя. Тебя, Тебя Одну, Единственную, Жемчужину, Единственное Святое, Великое, Могущественное Существо, Всё, Всё, Всё…», «Подол Твоего платья целую…», «Ангел Света», «Розовая», «Крылатая», «Светлая», «Дивная», «Чудесная»12.
К концу июня и с июля 1903 г. в письмах нет обращений к Л. Менделеевой как к носительнице Софийного начала. Даже отсутствует конкретное обращение к ней, начиная с письма, датированного 18 июня н. ст. 1903 г. из Бад-Наугейма, но содержащего в середине отголоски влияния соловьёвского символизма. «Милая», «Ненаглядная», «Ясная», «Зоренька» – обращения отнюдь не к образу Вечной Женственности, а к вполне земной возлюбленной. Возможно, тому послужил ряд причин, в том числе переосмысление идей учителя. Рассматривая процесс преодоления соловьёвства в творчестве раннего Блока, Ким Ын-Чжун анализирует изменение самим Вл. Соловьёвым собственных идей по отношению к равенству человека и космического творца, он не создает красоту, а только улавливает ее проблески. Обманутые ожидания преобразования мира вызвали разочарование и скепсис по отношению к мистицизму и связанному с ним образу Вечной Девы, Жены. Эстетические взгляды А. Блока, тем не менее, остаются под влиянием учителя. Преодоление соловьёвства заключалось в корректировке жизненных ориентиров, изменении интонации и снижении пафоса при трагическом раздвоении личности. У А. Блока противоречие между реальным миром и идеалом разрешается через выход к Распутью – символу переосмысления взглядов. Опору поэт ищет в конкретике служения Родине, когда социально-исторические потрясения страны выражены в ощущении нарастающего трагизма13.
Святая София – проводник слова Божьего, облаченная в Солнце жена, символ символов; Истина и Добро в образе Красоты, Любовь преломляются в поэзии Александра Блока и возвышенных отношениях к Любови Дмитриевне Менделеевой. Ранние письма, до 1903 г., подтверждают влияние философа-поэта Вл. Соловьёва на мировосприятие А. Блока, для которого этот образ фундировал его мировоззренческую систему. При анализе ранних писем к невесте делается вывод о единстве составляющих обращения к ней: 1) восприятие идей друга и учителя Вл. Соловьёва о переустройстве бытия через Вечную Женственность в образе Святой Софии; 2) противоречия между восторженными чувствами поэта и оценкой земной девушки, возведенной им до божества, заполняющего бытие; 3) символико-поэтическая природа мироощущения А. Блока.
Личная драма отношений с женой резко меняет тон эпистолярного пласта А. Блока, в котором уже нет присутствия образа Святой Софии. Начиная с 1907 г. и по 1917 г., в письмах к супруге поэтом поднимаются прозаические бытовые вопросы без восторженных сравнений ее с Белой Голубицей, Вечной Девой, Огненной Зарёй, Новым Торжеством, Первой Истиной, Ангелом Завета, Совершенной Красотой.
При анализе писем к невесте и к жене мы наблюдаем изменение взглядов А. Блока от обожествления в символах возлюбленной до переписки, содержащей решение прозаических вопросов. В данном собрании писем А. Блока жене завершающим является послание, датированное 20 июля 1917 г. В воспоминаниях Любовь Дмитриевна Менделеева-Блок отмечала, что берет на себя тяжесть беспокойного существования после революции. Но тяжесть, падающая на Блока, будет ему не по силам1.
В последнем письме от 20 июля 1917 г. А. Блок пишет о том, что когда они так долго не видятся, «нужно много сказать, обо многом советоваться… как много не сказано»2. Таким образом, невзирая на пересмотры философско-эстетических взглядов, кризисы семейных отношений, до последних дней поэта Любовь Дмитриевна оставалась для него Святой Софией.
Список литературы Образ святой Софии в письмах Александра Блока к жене
- Алексеева А.А. Культурно-ценностное пространство, определившее концептосферу лирики А. Блока // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 9-1 (27). С. 13-15.
- Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. 528 с.
- Исупов К.Г. Философия и литература «Серебряного века» (сближения и перекрёстки) // Русская литература рубежа веков (1890-е - начало 1920-х годов). М., 2001. Кн. 1. С. 69-130.
- Козырев А.П. Соловьев и гностики. М., 2007. 544 с.
- Крохина Н.П. София Вл. Соловьёва и А. Блока // Соловьёвские исследования. 2012. № 4 (36). С. 74-82.
- Машбиц-Веров И.М. Русский символизм и путь Александра Блока. М., 1969. 349 с.
- Мережковский Д.С. Мысль и слово. М., 1999. 350 с.
- Петрык Я.Ю. Русский символизм Серебряного века: философская лирика как эстетическая проблема // Манускрипт. 2021. Т. 14, № 2. С. 306-311. https://doi.org/10.30853/mns210064.
- Соловьёв В.С. Смысл любви. М., 1988. 493 с.
- Степун Ф.А. Мистическое мировидение. Пять образов русского символизма. СПб., 2012. 479 с.
- Фрейд З. Бессознательное. Демоны у нас внутри. М., 2022. 240 с.