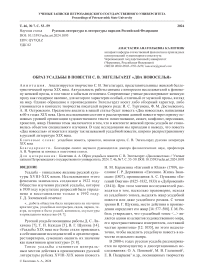Образ усадьбы в повести С. В. Энгельгардт "Два новоселья"
Автор: Калитник А.А.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русская литература и литературы народов Российской Федерации
Статья в выпуске: 7 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Анализируется творчество С. В. Энгельгардт, представительницы женской беллетристической прозы XIX века. Актуальность работы связана с интересом исследователей к феномену женской прозы, в том числе к забытым ее именам. Современные ученые рассматривают женскую прозу как гендерное явление, для которого характерен особый, отличный от мужской прозы, взгляд на мир. Однако обращение к произведениям Энгельгардт носит либо обзорный характер, либо упоминается в контексте творчества писателей первого ряда: И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, А. Н. Островского. Предметом анализа в нашей статье будет повесть «Два новоселья», написанная в 60-х годах XIX века. Цель исследования состоит в рассмотрении данной повести через призму основных уровней организации художественного текста: повествование, сюжет, конфликт, персонажи, хронотоп, жанр. Новизна темы заключается в том, что в контексте женской прозы усадьба не становилась объектом специального изучения. В ходе исследования мы приходим к выводу, что повесть «Два новоселья» относится к жанру так называемой усадебной повести, широко распространенному в русской литературе XIX века.
Усадебная повесть, хронотоп, женская проза, с. в. энгельгардт, русская литература xix века
Короткий адрес: https://sciup.org/147245783
IDR: 147245783 | УДК: 82 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.1093
Текст научной статьи Образ усадьбы в повести С. В. Энгельгардт "Два новоселья"
Усадьба – уникальное явление русской культуры XVIII–XIX веков. Исследованием этого феномена занималось созданное в 1922 году Общество изучения русской усадьбы, которое в 1930 году в результате репрессий было упразднено и восстановлено только в 1992 году. Г. Д. Злочевский отмечал:
«…работа общества была направлена на изучение архитектуры, усадебных интерьеров, садов, парков, театра, истории и быта усадеб, живописи, скульптуры и прикладного искусства» [4: 7].
Русской усадьбе посвящены работы Д. С. Лихачева [7], Т. П. Каждан [5], В. Г. Щукина [14]. «Усадьбы XIX века все более стали привлекать к себе внимание исследователей и архитекторов-реставраторов, сумевших оценить их значение как памятников архитектуры» [5: 8].
Топос усадьбы становится центральным местом действия в произведениях русской литературы рубежа XVIII–XIX веков (повесть
Н. М. Карамзина «Евгений и Юлия» (1789), послание Г. Р. Державина «Евгению. Жизнь Зван-ская» (1807), произведения А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (1825–1832, 1833) и «Дубровский» (1841)). При этом мнения исследователей расходятся в том, насколько правомерно, исходя из усадебного топоса, выделять жанр усадебной повести или даже усадебного романа. С точки зрения В. Г. Щукина, место действия в произведении определяет его жанр [14: 577–588]. Г. М. Ребель утверждает, что «усадебный топос <...> является одним из аспектов художественного мира, его пространственным измерителем, составной частью хронотопа» [12: 1055], но этого недостаточно, чтобы выделить усадебную повесть в качестве отдельного жанра.
В 2000-х годах русская усадьба рассматривается по преимуществу в диссертационных исследованиях: О. А. Поповой1, М. В. Глазковой2, Е. В. Подарцева3 и др., посвященных творчеству
Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева [3], И. А. Гончарова, А. А. Фета и И. А. Бунина.
В контексте женской прозы усадьба не становилась объектом специального изучения. И. Л. Савкина в своей работе о женской прозе 30–40-х годов XIX века обращает внимание на то, что в произведениях женщин-писательниц характерным местом действия является провинция и, как следствие, в повествование вводится образ провинциалки. По утверждению И. Л. Савкиной, женщины-писательницы «в качестве нарратора идентифицировали себя с провинциальной жительницей», поскольку «для них, не имевших узаконенного культурного места, необыкновенно острой была проблема человеческого и писательского идентитета» [13]. Провинция становится местом действия в произведениях М. Жуковой («Две сестры», 1843, «Наденька», 1853), Е. Ган («Любинька», 1842), А. Марченко («Тернистый путь», 1849) и др. В современных исследованиях внимание уделяется, как правило, более широкой теме, а именно гендерному аспекту женской прозы XIX века, как, например, в исследовании М. Ю. Поповой [11] и диссертации О. В. Пензиной4.
В зарубежном литературоведении феномену женской прозы также уделяется пристальное внимание. В работе C. A. Kelly с феминистской позиции представлен исторический обзор русской женской прозы. Автор опирается на широкий круг источников (альманахи, журналы) и анализирует творчество в том числе забытых писательниц [16]. S. Gilbert и S. Gubar рассматривают произведения женщин-писательниц, начиная от Джейн Остин и Шарлотты Бронте до Эмилии Дикинсон и Вирджинии Вульф [15].
***
Софья Владимировна Энгельгардт (1828– 1894), прозаик, поэт и переводчик, принадлежала к старинному, но обедневшему дворянскому роду Новосильцевых. Она общалась со многими известными людьми своего времени: А. А. Григорьевым, И. С. Тургеневым, А. Н. Островским и, достойным отдельного упоминания, А. А. Фетом, с которым Энгельгардт вела активную переписку.
С. Энгельгардт как автор собственных произведений практически неизвестна, хотя первые ее попытки литературного творчества – стихи на французском – задокументированы исследователями начиная с 1840-х годов. Заканчивается творческий путь Энгельгардт в 1892 году публикацией в журнале «Русское обозрение» последней повести.
Первый ее рассказ («Деревня») появился в журнале «Отечественные записки» в 1853 году. Затем последовали повести: «Утро вечера мудренее» (1853), «Суженого конем не объедешь» (1854), «На весь свет не угодишь» (1855), напечатанные там же. В 1854 году повесть Энгельгардт «Не так живи, как хочется» была опубликована в «Современнике», но впоследствии ее сотрудничество с этим журналом не сложилось, к тому же она оказалась в оппозиции к демократическому направлению, самыми известными представителями которого стали Н. А. Некрасов, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский.
Повести С. Энгельгардт «Старик» (1857), «Обочлись» (1860) опубликованы в журнале «Библиотека для чтения», редактором которого был А. В. Дружинин. Большая же часть ее повестей печаталась в «Русском вестнике». С его редактором, М. Н. Катковым, Энгельгардт тесно общалась. С начала 1860-х годов здесь публикуются повести «Судьба или характер?» (1861), «Камень преткновения» (1862), «Где же счастье?» (1864) и др. В 1870-х годах увидели свет повести «На родине» (1870), «Так Бог велел» (1872), «Старая вера» (1879) и др. Последняя повесть писательницы – «Пропажа. Рассказ старосветского помещика» – была опубликована в журнале «Русское обозрение» в 1892 году.
Повести Энгельгардт упоминались в статьях критиков того времени, которые давали им как положительные, так и отрицательные оценки. В статье Б. Ф. Егорова для седьмого тома словаря «Русские писатели. 1800–1917» упоминается отзыв А. В. Дружинина о повести «Суженого конем не объедешь»5, поставившего ее автора, как пишет Б. Ф. Егоров, «выше французских писательниц». С. Д. Толстая в своей статье «Мысли по поводу одной повести Ольги Н.», «сочувственно отнеслась к повести «Судьба или характер?»6. Крайне негативную оценку повести «Где же счастье?» (1864) дает Д. И. Писарев в статье «Прогулка по садам российской словесности» [10].
В XX веке творчество Энгельгардт не было предметом специального изучения, за исключением отдельных упоминаний. Например, В. С. Нечаева говорит о влиянии на рассказ «Лиза» (опубликован в 1864 году в журнале Достоевских «Эпоха») творчества И. С. Тургенева [9: 132]. Н. П. Генералова в сопроводительной статье к Ежегоднику на 1994 год пишет, что
«повести и рассказы С. Энгельгардт, подписанные псевдонимом “Ольга N.”, оказались прочно забытыми и затерялись на страницах русской периодики 50-х–80-х гг. XIX века»7.
Тематика повестей Энгельгардт разнообразна: от семейно-бытовых до философских проблем мучительного поиска человеком своего места в жизни. В своих произведениях Энгельгардт, продолжая ряд писательниц-беллетристок, часто предпринимала попытки привлечь внимание к «обсуждению остросоциальных тем» [6: 691]. По утверждению В. М. Марковича, произведение «тяготеет к беллетристике в той мере, в какой оно “принадлежит” только настоящему» [8: 56].
Особого внимания заслуживают повести на религиозную тему, которая реализуется на персонажном, сюжетном уровне, а также уровне хронотопа. Уже в повести «Судьба или характер?» (1861) возникает образ монастыря, который в дальнейшем становится одним из центральных мест действия. Основной сюжетный мотив ‒ уход человека в монастырь. Б. Ф. Егоров в статье, посвященной С. В. Энгельгардт, пишет, что автор «в свете православного мировоззрения ратовала за гармоничное состояние человека, а сильные страсти оказывались прерогативой дьявола»8.
Предметом рассмотрения в этой статье будет повесть «Два новоселья», опубликованная в июльском номере журнала «Русский вестник» за 1864 год.
Для творчества Энгельгардт использование усадебного топоса малохарактерно. Действие ее повестей, как правило, разворачивается в Москве. Повесть «Два новоселья», наряду с повестью «Камень преткновения» и рассказом «Лиза», также опубликованными в 1860-е годы, является очевидным исключением.
В повести «Два новоселья» местом действия становятся три усадьбы: Хотавки, Дубрава (семья Тугариновых) и Хреновка (семья Каминских). В центре сюжета – история семьи Тугариновых. Повествование открывается экспозицией, описывающей место действия – заброшенную усадьбу в Хотавках, затем автор возвращает читателя на 50 лет назад, чтобы рассказать историю семьи, начиная с женитьбы Алексея Васильевича Тугаринова и заканчивая вторым новосельем в Дубраве. Повествование в повести, таким образом, носит ретроспективный характер.
Смерть жены Тугаринова предрекает печальную участь дома в Хотавках, бывшего некогда богатым поместьем: «две церкви, десятка полтора каменных домов и лавок, базарная площадь, станционный двор; крестьяне народ промышленный, зажиточный» (170)9. Настроение утраты передают образы заглохшего сада и мрачных комнат. Флигель – это все, что осталось от прежнего большого дома, разрушенного до основания в 1806 году. В 1807 году Алексей гибнет под Прейсиш-Эйлау. Состояние заброшенности автор передает с помощью буквально нескольких деталей:
«Штукатурка только местами удержалась на наружных кирпичных стенах, которые издали пестрою массой отделяются от зеленого фона деревьев заглохшего сада, далеко раскинувшегося на холме» (170).
Образ сада, включающий такие поэтические компоненты, как мостики, скамейки, цветники, аллеи и беседки, является, по мнению исследователей, неотъемлемой частью усадебной повести [2: 58]. В повести «Два новоселья» сад не вписывается в привычные рамки поэтики рассматриваемого нами жанра. Автор изображает сад с помощью лаконичных деталей лишь для того, чтобы передать состояние заброшенности, перекликающееся с драматическими событиями в жизни героев, будь то смерть после родов жены Тугаринова или вынужденный отъезд из Дубравы в Хотавки. Только спустя три года после отъезда Бенедикта внучка Алексея Тугаринова осмелится вновь пройти по дубравскому саду, в котором «аллеи и цветники заросли травой; с берез поднимались стаи грачей, устроивших свои гнезда на верхушках» (184). Сад после отъезда семьи Тугариновых символично утратил прежний ухоженный вид. Такой сад Д. С. Лихачев определял, как «старый запущенный сад», понимая под ним «переросший себя регулярный сад, в котором особенно остро сочетается победа природы над началом рациональной регулярности» [7]. Сад в повести Энгельгардт становится «закулисным» местом для любовных свиданий Зиберта и Лизы, тогда как Лихвинов встречается с Лизой и Бенедиктой либо в замкнутом пространстве усадебного дома, либо во время прогулок и бесед на дубравской или хотавской дороге.
Любовный конфликт, который является центральным как в сюжете усадебной повести, так и в женской беллетристической прозе XIX века, выстраивается вокруг Лихвинова (ставшего владельцем Дубравы из-за утерянного завещания), Бенедикты (уже упомянутой внучки Алексея Тугаринова), Зиберта (помещика), Лизы (гостьи Каминских). Отношения между героями развиваются в пространстве трех усадеб: Хотавки, Дубрава и Хреновка.
Любовный конфликт Лизы и Зиберта комичен. О ней окружающие отзываются как об «эмансипированной девушке» (201). Ее образ во многом противоположен литературному типу тургеневской девушки, образованной, скромной и замкнутой. Свободолюбивый характер Лизы является, очевидно, отрицательной ее стороной, поскольку подразумевает раскрепощенность в словах и поступках, осуждаемую в светском обществе. Лихвинов («положительный» герой) поначалу ошибочно принимает ее поступки за проявление честности и искренности, но только до того момента, пока Лиза не начинает настойчиво добиваться его внимания. Все ее действия при этом изображены в карикатурном ключе. Она пишет длинные письма, в которых упрекает его в равнодушии, нарушает приличия, когда принимает его в своей спальне, приезжает к нему домой под надуманным предлогом. Лихвинов пытается стать для Лизы человеком, который поможет ей отказаться от «эмансипированных» взглядов, но терпит поражение, когда во время спектакля в имении Каминских Зиберт не по сценарию целует Лизу на сцене, и в результате его «участие к несчастной девушке сменилось почти отвращением» (234). Лиза не удостаивается и авторского сочувствия, поскольку «в ее сердце никогда не западала искра нравственного чувства» (227). Она бесцеремонно вмешивается в зарождающиеся отношения Лихвинова и Бенедикты. В результате образ возлюбленного теряет для Бенедикты свою привлекательность. Она убеждена, что, увлекшись Лизой, он отказался от своих моральнонравственных принципов.
Лихвинов противоположен Зиберту, самолюбивому и болтливому помещику, примыкающему к лагерю «отрицательных» персонажей, поскольку он легко приспосабливается к обстоятельствам, в зависимости от того, где находится и с какими людьми общается. Он, в отличие от Лихвинова, стремится стать «своим» в имении Каминских, однако «перед великосветскими своими знакомыми он отрекался от этой родной среды, единственной, где он жил полной жизнью» (223). В Хотавках его поведение, напротив, выглядит бестактным и неуместным. Точную характеристику Зиберту дает Бенедикта, когда говорит, что он «отвратительно хорош собой» (185).
Усадьба в Хреновке противопоставлена усадьбам в Хотавках и Дубраве и является формой «отрицательного» мироустройства, то есть изображения негативных сторон русской жизни. Интерьер усадьбы отражает черты характера, свойственные хозяйке Варваре Степановне Каминской: ее нечистоплотность вкупе с самолюбием и стремлением быть принятой в высшем обществе. Эта двойственность выражается через образы, построенные на обонятельном и зрительном восприятии: «сильный запах табаку», «кровать, стоявшая в углу, под пологом сомнительной чистоты», «диван, обитый побуревшим и местами изорванным сафьяном» (219). При этом хозяйка одета в дорогую мантилью поверх грязной блузы, ее плохо расчесанные волосы прикрыты великолепным чепцом. О неустроенности усадьбы говорят и другие детали, на первый взгляд незначительные: когда Лих-винов в первый раз приезжает к Каминской, его встречает лакей в изорванной, грязной одежде; когда он приезжает на спектакль и знакомится с ее дочерями, удивляется тому, что «они выросли честными девушками» (220); Каминская ради пышной свадьбы дочери заложила имение. О ее прошлом известно мало: она «рано вышла замуж, рано овдовела, сильно расстроила свое имение и нажила дурную славу» (220).
В противоположность Каминским семья Тугариновых сохраняет как семейные, так и народные традиции («положительное» начало), поэтому разрушение Хотавок и переезд в Дубраву стали для нее тяжелым испытанием. В усадьбу в Дубраве Маргарита (дочь жены Тугаринова от первого брака) переезжает вместе с новорожденными сестрами Марфой и Марией (дочери Тугаринова). Тугаринов приобрел ее перед отправкой в действующую армию, и именно там начинается устройство нового «родового гнезда».
Имение в Дубраве служит пространством, в рамках которого развернуто повествование о детстве. Детские воспоминания сестер Марфы и Марии основаны на запахах и тактильных ощущениях. Самым ярким из них становится воспоминание о том, как сестры «добрались до верхней полки вот этого шкапа, нашли на ней граненый флакон с розовым маслом и надушили себе ручонки» (180). Спустя годы это детское воспоминание усилит боль Марфы от потери Дубравы.
На всем протяжении повествования в дубрав-ской усадьбе живут в основном женщины. Знакомство с мужчинами делает мир усадьбы разомкнутым и, как правило, нарушает его гармонию. Так, молодой муж Маши, Радомский, «ветреный и взбалмошный человек, сохранивший все привычки холостой жизни» (175), способствует тому, что облик усадьбы меняется, потому как ему не понравилась «старинная отделка... и вышедшая из моды мебель».
Марфа воспринимает перемены болезненно, ей важно, чтобы маленькая Бенедикта (дочь Марии и Радомского), сирота, оставшаяся на ее попечении, росла в атмосфере, в которой жила ее мать. Тем самым обеспечивается преемственность поколений:
«Не без труда собрали прежнюю мебель, валявшуюся на чердаках и перенесенную в людские, дополнили ее новою, заказанной по старинным образцам; столовую расписали боскетом, как было в то время, как Маша и Марфинька сиживали за обедом <...> стены гостиной обтянули штофом, подобранным под цвет прежнего <...> также собрали большую старинную люстру с гранеными стеклышками и повесили ее опять на том месте, где она уже висела целые десятки лет» (175–176).
Хронологические маркеры «прежний», «старинные», «как было в то время», «целые десятки лет» свидетельствуют о временном периоде, на протяжении которого Тугариновы сохраняют свой семейный уклад. Он отражается прежде всего в воспитании Бенедикты, которое зиждется на устных преданиях и поверьях, чтении книг «о том, как волхвы приходили с дарами к младенцу Христу; или о том, как пчелы мед собирают; или о том, как Дмитрий Донской побил татар на Куликовом поле» (176). Важное влияние на жизнь Бенедикты оказала близость к природе. Природные образы (колосящаяся рожь, венки из васильков, поля, холмы, дороги) тесно переплетаются с крестьянским миром, с которым владельцы усадьбы имеют устойчивые связи. Среди крестьян выделяются такие персонажи, как кормилица Матрена, ее дочь Малаша, няня Василиса Ивановна, живущие с ними бок о бок. Связь с крестьянским миром проявляется и на уровне кровного родства. Лихвинов, будущий владелец Дубравы и муж Бенедикты, прямо говорит о своем крестьянском происхождении: «мой прадед был из вольноотпущенных, – это я знаю наверное, из официальных документов, которые мне довелось перебрать после смерти отца» (197). Дворянская культура в повести (что характерно для усадебной повести) постоянно взаимодействует с народной: святки, гуляния, праздники, хозяйственная и благотворительная деятельность [2: 58].
После вынужденного переезда во флигель в Хотавках (духовное завещание Маргариты, в котором она отписала Дубраву Марфе, было утеряно) их привычная жизнь налаживается не сразу, пройдет три года, прежде чем это случится, а до этого момента Марфа и Бенедикта будут страдать от того, что «оторваны от родной дубравской почвы» (180). Отъезд в Москву, ставший для них вынужденным из-за неустроенности флигеля в Хотавках, не заглушает тоски по усадебной жизни, потому как балы и светские приемы им совершенно чужды.
Флигель в Хотавках постепенно преображается, и это становится символом созидательного женского начала, воплощенного прежде всего в образе Марфы Алексеевны:
«В Хотавках понемногу все пришло в порядок: флигель поновлен снаружи и отделан внутри; домашнее хозяйство пошло как следует; в саду посажено множество молодых деревьев, клумбы усыпаны цветами, ко- торые так любит Марфа Алексеевна и которые так живо напоминают ей Дубраву» (180).
Утеря завещания, смерть Лихвинова-старшего и возвращение его сына из-за границы, с одной стороны, становятся драмой семьи Тугариновых, но, с другой стороны, именно Лихвинова автор наделяет правом вернуть Дубраву законным владельцам. Во многом именно поэтому финал повести «Два новоселья» отличен [1: 9] от традиционного финала усадебной повести, в котором герои не обретают счастья. Достаточно вспомнить романы И. С. Тургенева (из-за небольшого объема их часто относят к повестям: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне»), романную трилогию И. А. Гончарова («Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история»). По утверждению Доманского,
«в усадебной повести нет трагических финалов, но и нельзя назвать их оптимистическими, т. к. главные герои не достигли счастья <…> Мгновения счастья, гармонии, испытанные однажды героями, и есть высшее вознаграждение судьбы, их жизненный пик, которого им уже никогда не достичь» [2: 58].
Финал повести «Два новоселья», напротив, завершается семейным вечером, когда «у всех так радостно было на душе!» (245).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, повесть «Два новоселья» С. В. Энгельгардт можно рассматривать в контексте поэтики усадебной повести, жанровые основы которой были заложены в творчестве И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого и др. Место действия в ней – русская усадьба, которая становится не просто фоном, но и «действующим лицом» сюжета, во многом определяющим его основные коллизии. Образы героев словно вписаны в интерьеры усадеб. Если Маргарита и Марфа отражают созидательное, «положительное» начало, когда благодаря их стараниям усадьбы в Хотавках и Дубраве преображаются, то Каминская – начало разрушительное, «отрицательное», потому как грязь и неустроенность она прикрывает ширмой показного расточительства.
Сюжет повести складывается на основе тесного взаимодействия событий общественной и культурной жизни, быта, истории семьи и любовной коллизии, которая играет в сюжете доминирующую роль. Энгельгардт включает в повествование и изображение мира народной культуры (святки, гуляния), и описания природы (поля, холмы, дороги). Пейзаж помогает создать настроение грусти, утраты, радости. В то же время повесть Энгельгардт отличается от классической усадебной повести утопическим разрешением конфликта.
Список литературы Образ усадьбы в повести С. В. Энгельгардт "Два новоселья"
- Вершинина Н. Л. Проблемы беллетристики как вида литературы в литературоведении 1920-1930-х годов (проблемы жанра и стиля). Псков: ПГПИ им. С. М. Кирова, 1997. 179 с.
- Доманский В. А. Русская усадьба в художественной литературе XIX век: культурологические аспекты изучения поэтики // Вестник Томского государственного университета. Серия: Филология. 2006. № 291. С. 56-60.
- Ерохина Е. А. Еще раз об организации сюжета у И. С. Тургенева (на примере повестей 1850-х годов) // Вестник Череповецкого государственного университета. 2022. № 3 (108). С. 152-162. DOI: 10.23859/19940637-2022-3-108-11
- Злочевский Г. Д. Общество изучения русской усадьбы (1922-1930). М.: Санта-Оптима, 2002. 56 с.
- Каждан Т. П. Художественный мир русской усадьбы. М., 1997. 320 с.
- Кленова Ю. В. Классика, беллетристика, массовая литература: проблема границы // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17, № 1 (3). С. 687-693.
- Лихачев Д. С. Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. СПб.: Наука, 1991. 371 с.
- Маркович В. М. К вопросу о различении понятий «классика» и «беллетристика» // Классика и современность. М.: Изд-во Московского ун-та, 1991. С. 53-66.
- Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864-1865. М.: Наука, 1975. 305 с.
- Писарев Д. И. Прогулка по садам российской словесности. Разрушение эстетики. М: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 287 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://az.lib.ru/p/pisarew_d/text_0360. shtml (дата обращения 22.01.2024).
- Попова М. Ю. Феномен женской прозы в русской литературе 1840-1860-х годов: проблемы изучения // INITIUM. Художественная литература: опыт современного прочтения: сборник статей молодых ученых. Вып. 3. Екатеринбург: УГИ УрФУ, 2020. С. 26-30.
- Ребель Г. М. Усадебный топос и жанровая специфика тургеневского романа // Вестник Удмуртского университета. 2020. Т. 30, вып. 6. С. 1055-1060. DOI: 10.35634/2412-9534-2020-30-6-1055-1060
- Савкина И. Л. Провинциалки русской литературы (женская проза 30-40-х годов XIX века). Wilhelmshorst: Verlag F. K. Gopfert, 1998. 223 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://a-z.ru/ women_cd1/html/s_vved.htm (дата обращения 22.01.2024).
- Щукин В . Г. Поэзия усадьбы и проза трущобы // Из истории русской культуры. Т. 4 (XIX век). М.: Языки русской культуры, 1996. С. 574-588.
- Gilbert S., Gubar S. The madwoman in the attic: The woman writer and the nineteenth-century literary imagination. New Haven: Yale University Press, 2000. 719 p.
- Kelly C. A history of Russian women's writing 1820-1992. Oxford: Oxford University Press, 1994. 497 p.