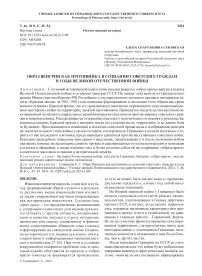Образ Венгрии как противника в сознании советских граждан в годы Великой Отечественной войны
Автор: Сенявская Е.С.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 8 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
С позиций исторической имагологии рассматривается «образ врага»-венгра в период Великой Отечественной войны в сознании граждан СССР. На основе документов из Центрального архива Министерства обороны РФ, Российского государственного военного архива и материалов газеты «Красная звезда» за 1942-1945 годы показаны формирование и эволюция этого образа как среди военнослужащих Красной армии, так и у гражданского населения, пережившего оккупационный режим венгерских войск на территории, занятой противником. Приводятся свидетельства жестокой оккупационной политики и карательных акций венгерских оккупантов против мирных советских граждан и военнопленных. Рассматривается отношение советского политического и военного руководства, военнослужащих Красной армии к венграм после вступления на их территорию и во время боев за Будапешт. Прослеживаются изменения в подходах советской пропаганды к изображению венгров на заключительном этапе войны с целью оставить гитлеровскую Германию в полной изоляции, оторвать от нее последнего союзника, продолжающего сражаться против наступающих советских войск. Показано враждебное поведение венгерского населения, продолжавшего и после окончания войны оказывать помощь не желающим сложить оружие и скрывающимся от плена венгерским и немецким солдатам и офицерам, а также влияние этих и более поздних событий на сохранение «образа врага» в советском массовом сознании и исторической памяти.
Великая отечественная война, сателлиты германии, венгрия, «образ врага», оккупационный режим, карательные акции, пропаганда
Короткий адрес: https://sciup.org/147245788
IDR: 147245788 | УДК: 94(47).084.8 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.1109
Текст научной статьи Образ Венгрии как противника в сознании советских граждан в годы Великой Отечественной войны
Взаимовосприятие народов, социумов и культур, формирование образа «чужого» в результате различных видов взаимодействия изучается таким современным научным направлением, как историческая имагология. Согласно ему, образ врага – это представления, возникающие у социального (массового или индивидуального) субъекта о другом субъекте, воспринимаемом в качестве несущего угрозу интересам, ценностям или самому социальному и физическому существованию общности «мы» («свои»), и формируемые на совокупной основе социально-исторического и индивидуального опыта, стереотипов и информационно-пропагандистского воздействия [7: 65]. При этом в условиях вооруженного конфликта проблема «мы и они», «свой-чужой» обостряется до предела, а «образ врага» никогда не формируется произвольно, то есть не может быть сведен лишь к «пропагандистскому продукту», а имеет под собой вполне реальные основания.
Во Второй мировой войне у Германии было немало союзников-сателлитов разных национальностей, участвовавших в боевых действиях против СССР, и на них, естественно, переносились основные негативные характеристики противника в целом, хотя и в ослабленной, по сравнению с главным врагом – Германией, форме. Но на тех участках фронта и временно оккупированных территориях, где приходилось иметь дело непосредственно с союзниками Германии, негативных моментов в отношении к ним было больше, чем в других местах.
После нападения Германии на СССР ее союзники предполагали, что война будет победоносно завершена максимум через несколько месяцев, поэтому «многие из них поспешили зафиксировать свой вклад в уничтожение Советского Союза». Так, Венгрия вступила в войну 27 июня 1941 года. За свои услуги Гитлеру венгерское правительство надеялось «получить обратно все территории исторической Венгрии», то есть распространить власть на всю Трансильванию, а также на утраченные после Первой мировой войны словацкие и часть украинских земель [4: 280].
Как в советской пропаганде, так и в восприятии населения СССР и военнослужащих Красной армии все сателлиты Гитлера представлялись «холопами» и «шакалами» в сравнении с их «хозяином» и «тигром» – самой фашистской Германией.
«Приходит час расплаты. Шакалы получат по заслугам, – 12 декабря 1942 г. в заметке “Судьба шакалов” писал Илья Эренбург. – Они получат за то, что они пришли к нам. Но мы ни на минуту не забываем о тигре. Тигр получит за всё – и за себя, и за шакалов, и за то, что он к нам пришел, и за то, что он привел с собой мелких жадных хищников»1.
На протяжении всей войны союзные Германии войска воспринимались как второстепенные пособники основного врага, не имевшие ни высокой боеспособности, ни воинского духа, которые были присущи немецким частям. «В итальянских, венгерских, румынских войсках дисциплина и морально-политическое состояние значительно ниже, чем в германской армии», «в то же время “союзнички” не отстают от немцев в грабежах и издевательствах над населением» [8: 115, 117], – свидетельствуют документы, упоминая среди грабителей и насильников представителей всех стран-сателлитов, включая венгров.
ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ВРАГА В ХОДЕ ВОЙНЫ
Следует отметить, что в изучаемый период для советской стороны образы Венгрии как политического субъекта (хортистского в 1941–1944 годах и салашистского в 1944–1945 годах режимов во главе венгерского государства) и венгров как представителей определенной национальнокультурной общности в составе армии завоевателей и оккупантов никак не дифференцировались и воспринимались как единое целое, в отличие от отношения к разным этническим группам в составе австро-венгерских войск в Первую мировую войну [6: 165].
В ходе Второй мировой войны в общественном сознании как советского общества, так и армии сложился обобщенный образ «жестоких мадьяр», особенно укрепившийся после освобождения ряда оккупированных районов СССР, где они проводили свои карательные акции, а также в конце войны, во время боевых действий уже на собственно венгерской территории, где враг дрался крайне ожесточенно. Но боеспособность венгров в боях на советской территории оказалась относительно невысокой. «Фрицы покрепче венгров», – к такому убеждению на собственном опыте приходили советские бойцы.
«В начале августа 1942 г., когда наши войска повели наступление через Коротояк на Острогожск, разбежались находившиеся на этом участке фронта две венгерских дивизии. После того, как их с трудом удалось собрать, по приказанию германского командования перед строем было расстреляно 20 венгров. Остальных тут же предупредили, что при повторении подобных случаев они также будут расстреляны. Венгерский комендант Острогожска был снят, а в город для усиления обороны прибыл немецкий полк» [8: 115–116],
– говорилось в одном из разведдонесений.
Между тем, не слишком успешные на поле боя, против мирного населения на захваченной советской земле венгры вели себя как крайне жестокие оккупанты [9], [10]. Неслучайно И. В. Сталин уже в декабре 1941 года заявил в присутствии британского министра иностранных дел А. Идена, что «венгры хуже эсэсовцев» [1: 97].
«Венгерский порядок» был установлен на Украине, в Белоруссии, Воронежской, Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской и других областях Советского Союза. Венгерское военное командование выпустило прокламацию, в которой, в частности, было сказано:
«Всякое убийство или попытка к убийству венгерских солдат будет караться смертной казнью. Помимо этого за каждого убитого солдата будет расстреляно 100 жителей, взятых из заложников, а деревня будет сожжена. Гражданскому населению запрещается пользоваться колодцами, предназначенными для солдат и обозначенными особыми знаками, а также подходить к ним. Лица, обнаруженные поблизости колодцев, будут рас-стреляны»2.
В заметке «Венгерский кур» от 19 мая 1942 года Илья Эренбург пишет о том, как в записной книжке одного венгерского солдата он нашел украинский перевод «некоторых особенно необходимых слов»: «Дайте. Гусь. Курочка. Куда пошел? Красивая девушка. Напрасно вы просите. Иди со мной спать. Молоко. Живей! Яйца. Иди туда, куда я скажу»3. В докладной записке Особого отдела НКВД Сталинградского фронта в Управление особых отделов НКВД СССР «О дисциплине и морально-политическом состоянии армий противника» от 31 октября 1942 года среди многих других фактов вскользь упоминается, как «в селе Ново-Николаевка на Днепре венгерский офицер, не стесняясь присутствием по- сторонних и ребенка, изнасиловал молодую женщину» [8: 117].
Венгры были врагами и врагами безжалостными, по жестокости превосходившими даже немцев, о чем сохранилось немало документальных свидетельств, зафиксированных в материалах Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК) [3: 78], образованной указом Президиума Верховного Совета СССР № 160/17 от 2 ноября 1942 года4.
Кроме свидетельств очевидцев и чудом выживших жертв преступлений, сохранились и признания самих палачей. Вот отрывок из письма венгерского военнослужащего Ференца Бол-дижара:
«Когда мы зашли в село, первые три дома поджег я сам. Мужчин, женщин, детей мы убили, село сожгли. Пошли дальше… Наши великолепные гусары подожгли село, третья рота поджигала ракетами. Оттуда дальше мы пошли в разведку. За время, которое мы провели в разведке, гусары сожгли шесть сел…» [1: 95].
В дневнике ефрейтора Янко Дюла (убит под Воронежем) написано: «Господин лейтенант спросил, кто возьмется сжечь деревню. Вызвались я и мой друг Панаи. Поджигали дом за домом и сожгли их дотла…». Ефрейтор венгерской армии Дала Юнке: «Вчера убил топором двух старух. Отрубил им головы. Орали, как куры»5.
Венгерские оккупанты считались самыми отпетыми карателями: изуверски пытали мирных жителей и пленных, насиловали, грабили, убивали. Их лозунгом было «неумолимое и безжалостное возмездие» не только как ответ на любое сопротивление, но и как превентивная мера устрашения, так как, по утверждению Аналитического обзора 4-го отдела Венгерского Королевского Генерального штаба об опыте боев с партизанами (апрель 1942 года, Будапешт),
«немилосердная жестокость у всякого отнимает охоту, чтобы впредь присоединяться к партизанам или поддерживать их… Важно, чтобы о возмездии узнали возможно более широкие слои населения» [2: 598].
Дошло до того, что массовые казни безоружных людей на Брянщине вызвали неодобрение (разумеется, из чисто прагматических соображений) министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, который 19 мая 1942 года записал в своем дневнике:
«В южной части этого региона венгерские элементы сражаются в очень трудных условиях. Им нужно теперь занимать и умиротворять одну деревню за другой, и это не слишком конструктивное дело. Когда венгры докладывают, что они “умиротворили” ту или другую деревню, это, как правило, означает, что ни одного жителя там не осталось. Это, в свою очередь, для нас значит, что мы едва ли сможем выполнять какие-нибудь сельскохозяйственные работы на такой территории» [3: 80].
Критику «венгерских методов борьбы с партизанами» высказывали и представители немецких оккупационных войск. Так, например, в докладе немецкого подполковника связи Крувеля от 29 мая 1942 года было сказано:
«С учетом пропаганды противника, их (венгерская) недисциплинированность и абсолютно произвольное поведение по отношению к местному населению могли принести только вред немецким интересам. Грабежи, изнасилования и другие преступления были обычным делом. Дополнительную неприязнь местного населения вызывал, очевидно, тот факт, что венгерские войска не могли нанести поражение противнику в боевых действиях» [11].
Особенно масштабными зверствами пособники Гитлера отличились в г. Воронеже, где две венгерские дивизии в буквальном смысле слова устроили резню мирного населения: людей сжигали живьем и заживо закапывали в землю, рубили головы, пилили пилами, вырезали кресты на телах, насиловали женщин и детей, пленных советских солдат перед смертью подвергали ужасным пыткам6.
Существует легенда, что генерал Н. Ф. Ватутин, услышав о зверствах венгерских вояк, выкрикнул сгоряча: «Мадьяр в плен не брать !» Эти гневные слова разлетелись по окопам, став негласным приказом для советских бойцов. И когда после 212 дней боев за Воронеж советские войска освободили город, среди 75 тыс. взятых в плен гитлеровцев, как утверждают многочисленные публикации в Интернете, не оказалось «ни одного венгра»7. Впрочем, как следует из статьи венгерского историка Евы-Марии Варга «Венгрия в войне против СССР: события 1942 г.», обнаружившей среди документов ГУПВИ НКВД СССР8, хранящихся в Российском государственном военном архиве, точные цифры пленных разных национальностей по состоянию на 3 февраля 1943 года, «количество венгерских военнопленных после донской катастрофы составило 31 299 человек» [1: 101]. Так что «ни одного венгра» – это все же легенда.
Зимой 1943 года под Воронежем 200-тысячная 2-я венгерская армия потеряла половину личного состава, почти всю технику и вооружение. По другим данным, из 300 тыс. погибших в годы Второй мировой войны венгров 160 тыс. остались лежать в воронежской земле. Неслучайно в венгерском языке появилось устойчивое выражение
«воронежское бедствие»: этот русский город стал для венгров таким же местом военного позора, как Сталинград – для немцев, Полтава – для шведов и Березина – для французов9.
Венгерские оккупанты оставили о себе ужасную память. Так, 8 октября 1944 года корреспондент «Красной звезды» З. Хирен писал:
«Капитан Благодаренко читал нам жуткое письмо. В нем описывалось поведение мадьяр на нашей родной земле. Вот что было в этом письме: “Коротко опишу, что сделали в нашем селе мадьяры во время оккупации. Отступая, они сожгли все общественные здания и много домов. Многих колхозников они убили за несвоевременный выход на работу. Сначала загоняли людей в заранее приготовленные ямы, а потом бросали туда гранаты. От рук венгров пострадала и ваша семья. Жену вашу Веру вместе с малыми ребятами выгнали на кухню. В комнате поселились два мадьяра. Они избили ваших родных. Потом однажды мадьяр подозвал к себе вашего сынишку Витю, дал ему заряженную гранату, сказал, что это игрушка, и послал в дом показать маме. Витя побежал на кухню и уронил гранату. Она разорвалась. Осколками убит ваш сын, искалечена жена…”»10.
В письме от 7 июня 1943 года к британскому послу в Москве А. Керру В. М. Молотов писал:
«Советское правительство считает, что за ту вооруженную помощь, которую Венгрия оказала Германии, а также за те убийства и злодеяния, грабежи и ужасы, которые были совершены на оккупированных территориях, ответственность нести должно не только венгерское правительство, но в большей или меньшей степени – также и венгерский народ» [1: 97].
Это мнение полностью разделяло как гражданское население СССР, в особенности тех районов, что пострадали от венгерской оккупации, так и бойцы наступающей Красной армии. Поэтому вполне закономерной, несмотря на все последующие «разъяснения» руководства СССР и военного командования, имеющие под собой политическую подоплеку и рассчитанные на будущее послевоенное устройство в Европе, стала ответная реакция наших бойцов в конце войны, когда советские войска перешли границу Венгрии.
27 октября 1944 года было принято Постановление ГКО СССР в связи с вступлением на территорию Венгрии, в котором предписывалось:
«Военному совету 2-го Украинского фронта издать к населению Венгрии воззвание, в котором призвать население продолжать свой мирный труд и оказывать командованию Красной Армии содействие и помощь в поддержании порядка и обеспечении нормальной работы промышленных, торговых, коммунальных и других предприятий. В воззвании объяснить населению, что Красная Армия вошла в пределы Венгрии, не преследуя целей приобретения какой-либо части венгерской территории или изменения существующего в Вен- грии общественного строя. Вступление советских войск на территорию Венгрии вызвано исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением германских войск и военных частей союзной с Германией Венгрии. В воззвании сказать, что Красная Армия выполняет приказ Верховного Главнокомандующего – преследовать неприятельские войска до их полного поражения и капитуляции противника» [5: 307–308].
Особо подчеркивалась мысль о том, что
«не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная Армия, не имевшая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах»11.
При вступлении Красной армии на территорию Венгрии приказано было:
«венгерских порядков не ломать и советских порядков не вводить» и «объявить для всеобщего сведения, что все личные и имущественные права венгерских граждан и частных обществ, а также принадлежащая им частная собственность находятся под охраной советских военных властей»12.
Газеты писали: «…невольно изумляешься великодушию и выдержке наших бойцов и офицеров на территории побежденной ими страны»13, однако факты стихийной мести случались.
«Это была первая страна, не сдавшаяся, как Румыния, не перебежавшая, как Болгария, не союзная, как Югославия, а официально враждебная, продолжавшая борьбу, – вспоминал Борис Слуцкий. – Запрещенная приказами месть была разрешена солдатской моралью. И вот начали сводить счеты»14.
Ненависть к венграм усугублялась их коварством: редко оказывая открытое сопротивление, они нападали исподтишка на отставших одиночных солдат, всегда были готовы нанести удар в спину, убивали, топили в силосных ямах15.
Политотделы и военные комендатуры отмечали, что отношение венгерского населения к Красной армии, как правило, недружелюбное, а то и открыто враждебное. В одном из донесений за конец сентября 1944 года как типичный пример приводился такой случай: когда через венгерское село проводилась группа пленных венгров, на обращение сопровождавшего колонну советского офицера к населению с просьбой накормить пленных,
«местные жители поняли, что они должны дать продукты Красной Армии и наотрез отказались, заявив, что у них ничего нет. Когда же им было разъяснено, что продукты нужны для пленных, через 15–20 минут было принесено столько продуктов, что можно было накормить в три раза больше людей, чем имелось плен-ных»16.
Отмечалась деятельность «в острых формах» (включая диверсионную и террористическую)17 фашистского подполья «на территории Венгрии, где фашистская идеология глубоко проникла в сознание многих слоев населения»18.
В советской пропаганде на страницах центральных газет венгров как таковых стали отделять и от «венгерских фашистов», и от «хозяев-немцев» почти сразу же после пересечения Красной армией государственной границы. При этом в описании собственно боевых действий и воинских качеств противника газетчики признавали, что «почти на всех участках мадьяры проявляют упорство», однако добавляли:
«Но чувствуется, что в их действиях нет уверенности. В венгерской армии под нажимом немцев применяются сейчас жесточайшие репрессии. Всюду работает жандармерия, солдат расстреливают без суда за малейшую провинность. Но это мало помогает. Под ударами наших частей венгры, а вместе с ними и немцы, продолжают отступать»19.
Впереди была венгерская столица Будапешт. И далеко не случайно медаль за участие в его штурме была названа не «За освобождение» (как в случае со столицами славянских государств – Белградом, Варшавой и Прагой), а «За взятие» (как с австрийской Веной, немецкими Кёнигсбергом и Берлином).
БОИ ЗА БУДАПЕШТ И СОВЕТСКАЯ ПРОПАГАНДА
-
5 ноября 1944 года «Красная звезда» писала: «Последние наемники Гитлера – венгерские фашисты доживают свои дни. Вдоль Дуная Красная Армия стремительно идет на Будапешт»20. Однако это продвижение столкнулось с серьезным сопротивлением противника – не только немецкого, но и венгерского. «Бои в Венгрии отличаются исключительным упорством»21, – признавал спецкор газеты К. Токарев 12 декабря 1944 года. Он же 30 декабря описывал тяжелейшие бои за овладение венгерской столицей:
«Положение осажденной будапештской группировки безнадежное. Но все же сопротивление противника возрастает по мере продвижения штурмующих частей в западных кварталах. Здесь каждый каменный дом, особенно старинной кладки, приспособлен к длительной обороне. Улицы, площади, скверы, проходные дворы и отдельные дома заминированы. В фасадах проделаны амбразуры, из которых ведут огонь пулеметы и даже минометы. Из окон, с чердаков, из-за углов и заборов, с крыш и даже с деревьев в скверах или в старинном королевском парке гитлеровцы встречают наших воинов сильным огнем. Враг дерется с отчаянием обреченного. Штурм опорных пунктов и отдельных зданий продолжается обычно до разрушения стен и поголовного уничтожения осажденных гарнизонов. В донесениях и сводках фигурируют не только освобожденные кварталы, но и отдельные дома»22.
1 января 1945 года газеты опубликовали сообщение Совинформбюро об убийстве немцами в районе Будапешта парламентеров, направленных советским командованием к окруженной группировке противника с ультиматумом о сдаче с целью
«избежать напрасного кровопролития, избавить мирное население огромного города от страданий и жертв, а также предотвратить разрушение столицы Венгрии и ее исторических ценностей, памятников культуры и искусства»23.
«Немцы хотят потащить за собой в пропасть миллионное население Будапешта, – говорилось в сообщении. – Что им венгерская столица, с ее достопримечательностями и культурными ценностями?.. Само собой разумеется, что вся ответственность за жертвы среди мирного населения, за разрушение города Будапешта падёт на головы гитлеровской клики палачей и убийц»24.
С этого момента попытки разделить в сознании советских военнослужащих «немцев» и «венгров» становятся более явными. Если в начале наступления по территории Венгрии немецкие и венгерские войска упоминались вместе в качестве «объединенного противника», то по мере продвижения Красной армии к Будапешту в статьях с описанием ожесточенных боевых действий все чаще встречаются противопоставления немцев и венгров, упоминания о венграх, массово сдающихся в плен, не желающих воевать за Гитлера25:
«Немцев особенно беспокоят участившиеся случаи перехода венгерских солдат и офицеров на сторону Красной Армии. В силу этого венгерские части и подразделения расформировываются и вливаются в немецкие соединения. Не так давно на пункте военнопленных пришлось слышать немало рассказов о том, что венгерские солдаты и офицеры, находящиеся в осажденном Будапеште, сражаются весьма неохотно. Капитан Пастор говорил, что он не знает ни одного офицера, который не имел бы при себе гражданского платья, чтобы при первом удобном случае переодеться и перейти на сторону Красной Армии. Вот его подлинные слова: “Я знаю лично полковника Гаана, сказавшего мне при встрече следуюшую фразу: “Будь спокоен, дорогой мой капитан, и я венгр”. Это означало, что он хочет избавиться от немцев, чтобы не погибнуть вместе с ними и при случае убежать в расположение советских войск»26.
Советская пропаганда действовала в четком соответствии с политической установкой: оставить гитлеровскую Германию в полной изоляции, оторвать ее от последнего союзника, еще сохранявшего верность и продолжающего сражаться против наступающих советских войск.
В этой связи особо подчеркивалось «принудительное участие» венгров в ненужной для них войне и преступления немцев против мирного венгерского населения. Это четко прослеживается по публикациям газеты «Красная звезда».
Так, в статье З. Хирен «Под Будапештом» от 28 декабря 1944 года говорилось:
«Ровной лентой тянется шоссе. По обе стороны его на полях горы нарытой земли. Всюду валяются лопаты, мотыги, тачки. Здесь встречаются мирные жители. Их пригнали сюда немцы воздвигать “неприступный столичный пояс”. Сейчас эти венгры заняты земляными работами иного порядка. Они зарывают многочисленные трупы немецких и венгерских солдат, оставшиеся здесь после боя. В пригородах столицы нашим бойцам повстречались местные жители, скрывавшиеся от преследования немцев и банд Салаши… Вот одна улица. Стены ее домов изрыты осколками снарядов, стекла побиты. Кое-где дома совсем снесены. Это сделали сами немцы. Здесь были обнаружены мирные жители, не пожелавшие выполнять немецкие распоряжения. Немцы стреляли по домам в упор из “тигров”, забрасывали окна ручными гранатами. В одном месте немцам долго не удавалось проникнуть в дом. Ворота этого дома были взорваны и сквозь образовавшуюся брешь туда прошли эсэсовцы. Через несколько минут из дома было выведено более 50 мужчин, женщин и детей. Немцы тут же расстреляли их»27.
-
6 января 1945 года в статье «Бои в кварталах Будапешта» военный корреспондент И. Агибалов писал:
«Пленные и перебежавшие на нашу сторону венгерские солдаты рассказывают, что в центре Будапешта царит полный произвол немцев. Там – повальный грабеж и мародерство. Немцы беспощадно расстреливают мирных жителей за появление на улицах после установленного времени, за бегство с оборонных предприятий и с принудительных работ»28.
Наконец, в очерке А. Захарова «В эти дни» за 14 февраля 1945 года сказано:
«Умышленно обрекая на разрушение столицу Венгрии, немцы мало церемонились и с ее хозяевами – с населением Будапешта… Из подвалов и убежищ освобожденного Будапешта выходят жители. Они много рассказывают о подробностях немецких зверств в городе»29.
Полтора месяца продолжались бои на улицах окруженного Будапешта, и наконец 14 февраля 1945 года советские войска полностью овладели столицей Венгрии. Но еще до окончания боевых действий в городе, по мере освобождения отдельных его районов, из подвалов и убежищ стало выходить прятавшееся там во время штурма города гражданское население, общая численность которого достигала двух миллионов человек. Поведение его сначала было опасливо-настороженным, но постепенно менялось.
-
31 января 1945 года зам. начальника Главного Политуправления РККА генерал-лейтенант И. В. Шикин докладывал заместителю Наркома обороны СССР о положении в Будапеште:
«Продовольственное положение населения крайне тяжелое. У продовольственных магазинов с утра выстраиваются многотысячные очереди. Основные запасы имевшегося в городе продовольствия вывезены немцами… Продуктов в продаже нет. Населением съедены все лошади, убитые в ходе боев… Имеют место случаи смертности на почве голода. Выпрашивание местными жителями хлеба у наших бойцов и офицеров стало массовым явлением» [5: 363].
Советское командование не только взяло на себя заботу о снабжении продовольствием населения огромного города, но и в кратчайшие сроки наладило электро- и газоснабжение освобожденных районов, способствовало возобновлению работы уцелевших и ремонту разрушенных предприятий, пуску городского трамвая и т. д. [5: 362–363]. Газеты писали:
«Жители Будапешта знают, что советские войска очень гуманно обращаются с населением. Красная Армия не только не преследует мирное население, но даже помогает ему налаживать мирную жизнь»30.
В других населенных пунктах Венгрии местные жители также вначале испытывали панический страх перед советскими войсками и, лишь убедившись в лживости фашистской пропаганды, постепенно меняли свое отношение. Так, в Донесении начальника политотдела 57-й армии начальнику политуправления 3-го Украинского фронта о работе с населением г. Надьканижа от 8 апреля 1945 года отмечалось:
«Боевая обстановка и, главным образом, длительная и интенсивная фашистская пропаганда привели к тому, что население было до крайности запугано. Около 15 000 (т. е. половина) городских жителей прятались в окрестных селах и виноградниках, в том числе большинство молодых женщин и девушек. Остальные жители скрывались в подвалах и бомбоубежищах, вывешивали белые флаги, подымали руки вверх при появлении красноармейцев. В качестве защитного знака широко использовалась повязка Красного Креста, которую надели городской голова, старшие полицейские чины и т. д. Все оставшиеся в городе полицейские и многие чиновники переоделись в штатское платье. Естественно, что первой задачей, вставшей перед работниками ПОАРМа, было разъяснение населению истинных целей прихода Красной Армии, разоблачение фашистской пропаганды, помощь командованию и комендатуре в нормализации городской жизни, так как боевые действия дезорганизовали городскую жизнь. Городские власти прятались. Среди разбежавшихся в момент ухода немцев заключенных местной тюрьмы было немало уголовников, которые начали бесчинствовать и грабить оставленные квартиры. В течение первых дней апреля в городе не было электричества, воды, хлеба. Местные предприятия не работали, отчасти из-за разрушений, а главным образом, из-за страха предпринимателей и рабочих. <…> Пропагандные мероприятия и постепенное упорядочение городской жизни дали серьезный результат. Страх населения перед Красной Армией исчезает. Ежедневно в город возвращаются тысячи бежавших в окрестности жителей. Улицы снова заполняются людьми. Наши плакаты читаются и сочувственно комментируются» [5: 391].
Но лучшей агитацией была реальная деятельность военных комендатур:
«По комендантской линии за это время уже закончено восстановление водоснабжения, пущен пивной завод, подготавливаются к пуску электростанция и мельница. Обнародованы приказы № 1 и 2. Собраны радиоприемники и оружие. Понемногу открываются магазины и мастерские. В городе наведен порядок… Духовенство полностью осталось в городе. Католические церкви возобновили работу уже 3 апреля. Евангелическая церковь, где богослужение совершается по воскресеньям, будет работать без перерыва. По наведению порядка в городе по линии комендатуры приняты энергичные меры» [5: 393].
Однако окончательно избавиться от образа врага советским военнослужащим оказалось непросто, несмотря на все идеологические и политические установки руководства страны и армии. Слишком жива была память о венгерских зверствах на оккупированных территориях, жители которых далеко не случайно утверждали, что «венгры хуже немцев».
Уже после окончания войны венгерское население оказывало помощь не желающим сложить оружие и скрывающимся от плена венгерским и немецким солдатам и офицерам, в основном из войск СС, «в приобретении одежды, питания, предоставляло жилье, помогало устраиваться на работу и содействовало в приобретении фиктивных документов»31. Отмечалось, что «наиболее активная враждебная деятельность» ведется «легально существующей, так называемой кулацкой партией», занимающейся «распространением среди населения провокационных слухов о Красной Армии»32 и т. д. Мнение о «коварстве» и «неблагодарности» венгров надолго сохранилось в сознании тех, кому пришлось непосредственно иметь с ними дело.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одиннадцать лет спустя это мнение получило свое дальнейшее подкрепление и развитие: в октябре – ноябре 1956 года в столице Венгрии Будапеште произошел кровавый мятеж. И это не «пропагандистское клише», как пытаются утверждать представители либерального направления историографии, а реальная оценка исторического события, вдохновителями и организаторами которого были западные спецслужбы (операция ЦРУ «Фокус»), готовившие и вооружавшие боевиков и применившие в Венгрии первый сценарий «цветной революции»32. Зверские убийства и пытки, которые творили мятежники (в большинстве своем имевшие боевой опыт, полученный в войне с СССР) против своих сограждан, ничем не отличались от тех, что совершали в годы войны на советской территории венгерские оккупанты. Мятеж был решительно подавлен введенными в Будапешт советскими войсками, но уже после того, как пролилась кровь и погибли в том числе и советские граждане. В современной Венгрии садистов и убийц, участвовавших в попытке государственного переворота и вооруженного захвата власти в стране в 1956 году, пытаются представить «мирными демонстрантами» и невинными жертвами «советского тоталитарного режима».
Что касается истории Второй мировой войны и участия в ней Венгрии на стороне фашистской Германии, в том числе и на территории СССР, то и в политическом дискурсе, и в современной историографии тема военных преступлений венгерских войск не то чтобы табуирована, но до недавнего времени о них стыдливо умалчивали или осторожно оправдывали. В последние же годы в Венгрии, как отмечают историки Тамаш Краус и Ева Мария Варга, «после смены строя в свете ревизионистских подходов участие страны во Второй мировой войне получило переоценку не только среди общественных деятелей и в кругах интеллигенции, но и в научной среде» [1: 101], причем с официального одобрения и «на государственные средства идет героизация армий, которые приняли участие в нападении на СССР и продолжавшемся почти три года ограблении и физическом уничтожении мирного населения» [3: 78, 80, 93]. Подтверждением усилий некоторых современных представителей венгерских правящих кругов, направленных на «обеление исторической роли хортистских оккупационных войск»34, служит, например, запись на официальной странице Facebook* (*принадлежит компании «Мета». Организация признана экстремистской и запрещена на территории России) правительства Венгрии, сделанная в январе 2019 года:
«Вспомните мужество наших дедов, тех героических венгерских солдат, которые сражались за Венгрию до конца на Дону… 12 января 1943 года советская армия атаковала 200-тысячную венгерскую армию. Венгрия потеряла 120.000 героев, и многие были захвачены в плен. Слава героям!»35
И хотя сегодня, в сложной международной обстановке противостояния России коллективному Западу, венгерское руководство, несмотря на общеевропейский тренд, ведет себя по отношению к Российской Федерации достаточно лояльно, это не отменяет опасных тенденций пересмотра исторического прошлого и его оценок в венгерском социуме, которые рано или поздно, но неизбежно приведут к реваншизму.
Список литературы Образ Венгрии как противника в сознании советских граждан в годы Великой Отечественной войны
- Варга Е.М. Венгрия в войне против СССР: события 1942 г. // Великая Отечественная война, 1942 год: Исследования, документы, комментарии. М.: Изд-во Гл. арх. упр. г. Москвы, 2012. С. 79-108.
- Великая Отечественная война, 1942 год: Исследования, документы, комментарии. М.: Изд-во Гл. арх. упр. г. Москвы, 2012. 615 с.
- Краус Т., Варга Е. М. Венгерские войска и нацистская истребительная политика на территории Советского Союза // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2015. № 1 (6). С. 74-95.
- Кульков Е. Н. Кризис и распад блока агрессоров (Мировые войны ХХ века. Кн. 3. Вторая мировая война. Исторический очерк.) М.: Наука, 2002. 597 с.
- Русский архив. Великая Отечественная. Т. 14 (3-2). Красная Армия в странах Центральной, Северной Европы и на Балканах: Документы и материалы. М.: ТЕРРА, 2000. 688 с.
- Сенявская Е. С. Противники России в войнах ХХ века: Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. 288 с.
- Сенявский А. С., Сенявская Е. С. Историческая имагология и проблема формирования «образа врага» (на материалах российской истории ХХ века) // Вестник РУДН. 2006. № 2 (6). С. 54-72.
- Сталинградская эпопея. Материалы НКВД СССР и военной цензуры из Центрального архива ФСБ РФ. М.: Звонница-МГ, 2000. 496 с.
- Филоненко Н. В. Действия венгерских оккупационных войск на советской территории в конце 1941 - середине 1942 годов // Вестник Воронежского государственного университета. 2017. № 3. С. 87-91.
- Филоненко Т. В., Филоненко С. И., Хорват Г. Венгерские оккупационные войска на временно захваченной территории СССР (октябрь 1941 - февраль 1942 гг.) // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2018. № 4 (281). С. 112-114.
- Унгвари К. Венгерские оккупационные войска на Украине в 1941-1942 гг. Пер. с венгер. // КЛИО. Журнал для ученых. 2011. № 2 (53). С. 56-62; № 3 (54). С. 52-58.