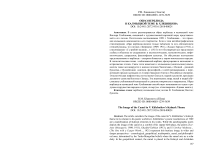Образ верблюда в калмыцкой теме В. Хлебникова
Автор: Ханинова Римма Михайловна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (45), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается образ верблюда в калмыцкой теме Виктора Хлебникова, связанный с художественной картиной мира, представленной в его поэзии. Поэтическое воспоминание 1909 г. Хлебникова - это проекция калмыцких компонентов в его творчестве. Если в этом автобиографическом стихотворении образ верблюда являлся только эмблемой, то есть обозначением степной родины, то в поэмах «Зверинец» (1909, 1911), «Хаджи-Тархан» (1913), в стихотворении «С утробой медною…» (1921) этот бестиарный код представлен глубже и объемнее по содержанию: в космологическом, геополитическом, мифо-поэтическом, сакральном, философском аспектах. Он обусловлен языческими представлениями о верблюде - солярном божестве у тюрко-монгольских народов. В геополитическом плане хлебниковский верблюд сфокусирован в калмыцких и астраханских степях. Связь этого животного с калмыцким (монгольским) компо- нентом также ассоциируется с именем потомка Чингисхана, с Индией - родиной буддизма, с буддийскими книгами, философией, с идеей реинкарнации, с перекочевкой предков калмыков из Северо-Западного Китая в Российскую империю. Этиологическая мифопоэтика поэта являет близость зверей и религий, проекцию духовного единства Востока и Запада. Эта взаимосвязь мира людей и зверей обусловлена хлебниковской концепцией о единстве микрокосма и макрокосма. Образ верблюда в калмыцкой теме Хлебникова способствует пониманию его идеи о грядущем содружестве народов и стран, их вер (см. стихотворение «Единая книга»).
Верблюд, калмыцкая тема, поэзия в. хлебникова, восток, буддизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14914704
IDR: 14914704 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00024
Текст научной статьи Образ верблюда в калмыцкой теме В. Хлебникова
Объектом и предметом исследования калмыковедов бестиарный код в творчестве Велимира Хлебникова стал недавно: статьи Д.Н. Музраевой «К сравнительному изучению образов птиц в восточной и славянской поэтике (Птицы в поэзии Хлебникова)», Б.Б. Манджиевой «Концепт “змея” в фольклорной традиции калмыков и его развитие в произведениях В. Хлебникова». По мнению Д.Н. Музраевой, при сопоставлении, например, образ кукушки в восточной поэтике отличен от хлебниковской трактовки этого образа [Музраева 2015, 141-143]. Показательно, что «Хлебников обычно в своих стихах пользуется единичными образами птиц, морские птицы и домашние птицы в их видах используются не для завершения модели мира, что характерно для древнерусской и средневековой литературы, а для создания локальных моделей микрокосма» [Музраева 2015, 144].
Подчеркивая влияние фольклора на формирование и развитие поэтической системы Хлебникова, Б.Б. Манджиева считает, что в его «произведениях дореволюционной поры отрицательная семантика змея-поезда подчеркивала слабость человека и связывалась с торжеством зла. Мотивы змееборчества в произведениях послереволюционной литературы <...> связаны с появлением героя-деятеля и идеей возможного преображения человека и мира в целом» [Манджиева 2015, 211]. Так, амбивалентный образ змея в европейской и восточной поэтике имеет общую тенденцию развития в хлебниковской картине мира.
В домашнем мире калмыков, среди которых прошло раннее детство поэта, овцы, кони, верблюды представляют основные виды скота. Владимир Алексеевич Хлебников, попечитель Малодербетовского улуса, в «Программе вопросов о пользовании калмыков Астраханской губернии землею и вообще о хозяйстве их» один из разделов посвятил скотоводческому хозяйству, в том числе верблюдам [Архив В .А. Хлебникова, 71-125].
В поэтическом воспоминании 1909 г. Хлебникова-младшего - не только описание природы родного края, но и проекция калмыцких компонентов в его творчестве: «Меня окружали степь, цветы, ревучие верблюды, / Круглообразные кибитки, / Моря овец, чьи лица однообразно худы, / Огнем крыла пестрящие простор удоды - / Пустыни неба гордые пожитки. /
Так дни текли, за ними годы...» («Меня окружали степь, цветы, ревучие верблюды...») [Хлебников 2000-2006,1, 205].
Мифологема огня в стихотворении Хлебникова «Как стадо овец мирно дремлет...» (1921), овеществленная в спичках, лежащих в коробке-хлеву, вызывает в памяти «моря овец, чьи лица однообразно худы», в ассоциативно-семантическом ряду: овца - множественность - прирученность -однообразие - худоба, т.е. покорные человеческой руке одинаковые, тонкие спички [Ханинова 2005, 186-192].
М.В. Панов, обращаясь к стихотворению «Как стадо овец мирно дремлет. ..», так поясняет сравнение спичек, мирно дремлющих в коробке: «Коровы и овцы, прирученные звери, в знак своей покорности пребывают в хлеву. Небесный огонь, грозный зверь, тоже покорился: он смирно покоится в своем хлеву - в коробке спичек» [Панов 2000, 320].
Можно указать на калмыцкую загадку «Полный сарай овец и все черноголовые. (Спички)» [Калмыцкое устное народное творчество 2007, 259]. Возможно, учитывая этнографические познания поэта, почерпнутые также от отца, от астраханских калмыков, эта загадка была ему знакома [Ханинова 2008, 316-319]. Расширяя зооморфную метафору, следует привести другую калмыцкую загадку: «Хашань цайан, хень хар (ограда бела, овцы черны) - цаасн бичг хойр (бумага и письменные знаки)» [Пюрбеев 1996, 34], иначе говоря - в белой кошаре черные овцы.
В стихотворении 1909 г. «Меня окружали степь, цветы, ревучие верблюды...» описание калмыцких верблюдов передано Хлебниковым эпитетом «ревучие» в звуковом регистре. В том же тексте упомянут караван верблюдов: «Порой под охраной надежной казаков / Углублялся в глушь степную караван» [Хлебников 2000-2006,1, 205]. Мальчик часто сопровождал отца в его поездках.
В поэме «Хаджи-Тархан» (1913) образ верблюда также связан со степью: «Как скатерть желтая, был гол / От бури синей сирый край. / По ней верблюд, качаясь, шел <...>» [Хлебников 2000-2006, III, 121]. Автор указал на походку животного (качаясь), поскольку верблюд при передвижении использует одновременно две конечности с одной стороны, а затем уже с другой.
В следующей портретной зарисовке даны другие подробности - величины, волос, силуэта: «Стоит верблюд сутул и длинен, / Космат, с чернеющим хохлом» [Хлебников 2000-2006, III, 121].
В конце поэмы к расширенной характеристике животного поэт добавил сравнение верблюжьих горбов с пустыми рукавицами, уточнил цвет глаз (синий), описал верблюжью упряжь (повод): «Запрятав в брови взоры синие, / Исполнен спеси и уныния, / Верблюд угрюм, неразговорчив, / Стоит, надсмешкой губы скорчив. / И, как пустые рукавицы, / Хохлы горба его свисают, / С деньгой серебряной девица / Его за повод потрясает» [Хлебников 2000-2006, III, 127]. Отвисшая нижняя губа животного вызывает ассоциацию с человеческой усмешкой (губы скорчив), отсюда перечисленные автором двойственные черты характера верблюда (спесь и уны- ние). Антропоморфизм проявляется в наделении верблюда человеческими свойствами (угрюм, неразговорчив), отсылая, как представляется, к поэме «Зверинец».
Ранее в «Зверинце» (1909, 1911) поэт описал Московский зоологический сад, «где взгляд зверя больше значит, чем груды прочтенных книг», и поэтому «верблюд, чей высокий горб лишен всадника, знает разгадку буддизма и затаил ужимку Китая» [Хлебников 2000-2006, V, 41].
Письмо Хлебникова В. Иванову от 10 июня 1909 г. поясняет его авторский замысел:
«Я был в Зоологическом саду, и мне странно бросилась в глаза какая-то связь верблюда с буддизмом, а тигра с исламом. После короткого размышления я пришел к формуле, что виды - дети вер и что веры - младенческие виды. Один и тот же камень разбил на две струи человечество, дав буддизм и Ислам, и непрерывный стержень животного бытия, родив тигра и ладью пустыни. Я в спокойном лице верблюда читал развернутую буддийскую книгу. На лице тигра какие-то резы гласили закон Магомета. Отсюда недалеко до утверждения: виды потому виды, что их звери умели по-разному видеть божество (лик). Вот моя несколько величественная точка зрения» [Хлебников 1940, 356].
В архаических представлениях тюрко-монгольских народов верблюд -солнечное животное, громовержец, связанный с верхним миром. Калмыцкая пословица, гласящая, что «Тема унсн кун тецгрт еерхн. Человек на верблюде ближе к небу» [Пословицы, поговорки и загадки калмыков 2007, 584], демонстрирует эту корреляцию с Вечно Синим Небом.
Особую роль верблюда в осуществлении взаимосвязи верхнего (божественного) и среднего (земного) миров иллюстрирует приведенная Э.П. Бакаевой легенда о Шарапе багши, проживавшем в начале XX в. в Хошеутовском улусе, в селе Ики Цахар.
«При приближении смерти он сообщил ученикам, что достойные узнают о его судьбе. Впоследствии некоторые ученики увидели на снегу следы, оставленные верблюдом, которые вели к небу, а поскольку дело происходило зимой, на снегу были оставлены и следы, словно проехали сани. “Следы верблюда” - устойчивый элемент, характеризующий взаимосвязь миров. В сказках божество (или его поздняя замена - монах) приказывает праведным людям найти дорогу по следам верблюда, которые могут неожиданно появиться через несколько лет и привести к адресату» [Бакаева 2009, 119].
Как полагает Н. Башмакова, наблюдаемые предметы - звери - выглядят как наделенные жизнью духа - верой: «Живая природа смотрится в “Зверинце” ликом веры - веры в сверхмеру проекции жизни духа, веры в пространственное преображение космических масштабов» [Башмакова 1987, 170].
Согласно Н. Сегал, «путешествие по Зоологическому саду и присталь
но
ное вглядывание в облики зверей оборачивается в замысле Хлебникова этиологической мифологемой, грандиозность масштаба которой им прекрасно осознается и подчеркивается. <...> Слово “Зверинец”, вынесенное в заглавие поэмы, корреспондирует с представлением о заповедном, укромном месте, где находятся ценности, моральные и физические. <...> пространство хлебниковского Зверинца может быть рассмотрено как аллегория России, воплощение ее традиций, литературы и истории со времени создания “Слова о полку Игореве”, обозначающего в поэме исходную точку культурного отсчета, и до настоящего времени» [Сегал (Рудник) 2011, 198, 199, 200]. Таким образом, «идея воспитания человека в заповедном саду и путь восхождения, с ней связанный, становится чрезвычайно актуальной. Она является структурной основой текста Хлебникова, а многочисленные превращения животных и людей, воплощенные в лексических и визуальных комплексах, служат необходимыми знаками читателю.
Используемый Хлебниковым способ организации пространства в целом восходит к средневековой традиции, ставшей основой европейской садово-парковой архитектуры, в которой сад понимался как аналог книги, предполагающей особый способ чтения и понимания» [Сегал (Рудник) 2011,200, 201].
Спокойное «лицо» верблюда, подобное развернутой буддийской книге - таким видится поэту «образ буддийской философии», поскольку «верблюд животное, обладающее определенными чертами, - спокойствие, невозмутимость, медлительность, стойкость, выносливость и др.», - подчеркнула В.В. Куканова [Куканова 2016, 23].
По словам Н. Сегал, «представление о единстве Востока и христианской Европы возникает за образом верблюда, соотносящегося не только с “разгадкой буддизма”, но и с символом одной из христианских добродетелей - сдержанности, умеренности» [Сегал (Рудник) 2011, 221]. Сад у Хлебникова в «Зверинце», как известно, и мифологема рая, обретенного и потерянного людьми.
Вероятно, Хлебникову было известно, что при перекочевке калмыков священные книги и другие буддийские атрибуты обычно перевозились на белых верблюдах.
Паллас писал: «...одногорбые белые верблюды, коих они бухарскими называют, употребляются только для возки священных книг, изтуканов, то есть бурханов и протчих по их закону священных вещей. Все такие вещи укладывают в телегу, которую везут белые верблюды. Они украшают навьюченных верблюдов колокольчиками, и там почти ничего нет приятнее, как встречаться с такими странствующими калмыцкими семьями» [Паллас 1773,482].
По Хлебникову, взгляд верблюда затаил ужимку Китая. Быть может, автор «Зверинца» связал это животное с монголо-ойратскими племенами, которые из Северо-Западного Китая перекочевали в Российскую империю в начале XVII в., привезя с собой буддийские книги.
Позже, в 1921 г, в стихотворении «С утробой медною...» поэт напом- нил, как из Ганга «священную воду / В шкурах овечьих верблюды носили, / Чтоб брызнуть по водам свинцовым на Волге, реке дикарей» [Хлебников 2000-2006, II, 201]. Глядя на медную чернильницу-верблюда, изваянную «потомком Чингисхана», Хлебников подчеркнул, что верблюд этот несет в пустынях белых письменного стола «колючей мысли вьюк» [Хлебников 2000-2006, II, 200]. Здесь цвет пустыни стола обусловлен бумагами на нем («с шелестом сухих бумаг»). Другая метафора «по скатерти стола задумчивый прохожий» [Хлебников 2000-2006, II, 201 ] опирается на сравнение со скатертью в поэме «Хаджи-Тархан»: «Как скатерть желтая, был гол <...> сирый край» [Хлебников 2000-2006, III, 121]. Задумчивость верблюда также восходит к его характеристике в этой поэме (спесь, уныние, угрюм, неразговорчив). Поэтому мотив перерождения проявляется в следующем обращении к медной вещи-верблюду: «В переселеньи душ ты был, / Быть может, раньше нож. / Теперь неси в сердцах песчаных / Из мысли нож!» [Хлебников 2000-2006, II, 201]. Острота мысли сродни мудрости.
В авторском примечании к стихотворению Хлебников пояснил:
«Почерк писателя настраивает душу читателя на одно и то же число колебаний. Задача переносить груз чисел колебаний из одной души в другую выпала <на> долю одного испаганского верблюда, когда он пески пустыни променял на плоскость стола, живое мясо - на медь, а свои бока расписал веселыми ханум, не боящимися держать в руках чаши с вином.
Итак, находясь у тов. Абиха, верблюд обречен носить на горбах равенство основного душевного звука в душе писателя и душе читателя» [Хлебников 2000-2006, II, 201-202].
Авторская неточность есть во множественном числе (горбы), несмотря на то, что на рисунке Р.П. Абиха, сотрудника Политотдела Персидской Красной Армии, владельца чернильницы, верблюд одногорбый.
Сравним с другим артефактом. А.К. Акишев в своей статье «Образ верблюда в легендах Центральной Азии» обратил внимание на бронзовую курильницу из Семиречья, хранящуюся в Государственном Эрмитаже. Изображения двух двугорбых верблюдов головами друг к другу помещены в центре курильницы, на «мировой оси». «Четыре струйки дыма от четырех фитилей, закрепленных в горбах, пронизывали тела зверей и поднимались вверх. Учитывая общую символику курильниц, можно предположить, что четыре горба верблюдов ассоциировались с западом - востоком, севером -югом и с четырьмя планетарными огнями по краям земли. В таком случае верблюды подразумевались огромными, как мир, и приобретали космическое значение. Мы столкнулись с мифопоэтическим осмыслением образа верблюда» [Акишев 1984, 70]. По предположению ученого, «широкое распространение изображений верблюда в искусстве ранних кочевников Средней Азии и Южного Казахстана наводит на мысль, что мифы, легенды, поверья, ритуалы и магические обряды, связанные с верблюдом, могли быть сложены в среде ираноязычных племен» [Акишев 1984, 71-72]. Сре-172
ди воплощений солярного бога Авесты Веретрагны был и верблюд [Акишев 1984, 73]. Со временем «образ верблюда (исходное тотемное значение - Вселенная) трансформировался в божество войны. Однако в системе зооморфной символики сохранялось и его древнейшее значение. Об этом свидетельствуют троны раннесредневековых владетелей Согда, имевшие вид верблюда. Наличие сакральной функции трона (символический центр мира) убедительно доказано» [Акишев 1984, 75].
В тюрко-монгольских мифах и фольклоре мифема небесного верблюда-громовержца затем переросла в образ верблюда-чудовища, пожирающего все живое, в том числе людей. Например, в 10-й песне калмыцкого эпоса «Джангар» богатырь Мингйан одолел такого верблюда: «Увидел Мингйан: / Мчится к нему небесный верблюд Хавсал, / Десять огней полыхает в огромном рту» [Джангар... 1989, 222]. По-калмыцки имя этого верблюда звучит Хавшил. Так он назван в научном переводе эпической песни о том, как Мингйан пленил хана Кюрмена: «Злое встретится существо - / Небесный белый верблюд Хавшил» [Джангар... 1990, 294].
Верблюда Хлебников в «Зверинце» назвал «ладьей пустыни» вместо привычной метафоры «корабль пустыни», использовав славянское слово «ладья» (лодка) и соединив, таким образом, разные страны и народы, где обитают верблюды, двугорбые (бактриан) и одногорбые (дромедар).
Итак, если в автобиографическом стихотворении 1909 г. образ верблюда являлся эмблемой степного края, где родился поэт и провел свое раннее детство, то в поэмах «Зверинец» (1909, 1911), «Хаджи-Тархан» (1913), в стихотворении «С утробой медною...» (1921) этот бестиарный код представлен в космологическом, геополитическом, мифопоэтическом, сакральном, философском аспектах. Связь данного образа с калмыцким (монгольским) компонентом также ассоциируется с именем потомка Чингисхана, с Индией - родиной буддизма, с буддийскими книгами, с буддийской философией, с идеей реинкарнации - перерождения живых существ, с перекочевкой предков калмыков из Северо-Западного Китая в Российскую империю.
Для Хлебникова в силу рождения в Калмыцкой степи его второе «я» -«монгольский мальчик, задумавшийся о судьбах своего народа» [Хлебников 2000-2006, V, 203]. «Там сложилось мое детство, где море Китая затеряло в великих степях несколько своих брызг; и эти капли-станы, затерявшиеся в чужих степях, медленно узнавали общий быт и общую судьбу со всем русским ладом» [Хлебников 2000-2006, V, 202]. Оттого в стихотворении «Могилы вольности Каргебиль и Гуниб...» (1909) Хлебников воскликнул: «Я думал о России, которая сменой тундр, тайги, степей / Похожа на один божественно-звучащий стих» [Хлебников 2000-2006,1, 202-203].
Эта взаимосвязь мира людей и мира зверей обусловлена хлебниковской концепцией о единстве микрокосма и макрокосма. Следовательно, образ верблюда в калмыцкой теме В. Хлебникова способствует пониманию идеи Председателя земного шара о грядущем содружестве народов и стран, их вер (см. стихотворение «Единая книга»), о взаимосвязи мира человека и природы.
Список литературы Образ верблюда в калмыцкой теме В. Хлебникова
- Акишев А.К. Образ верблюда в легендах Центральной Азии//Этнография народов Сибири. Новосибирск, 1984. С. 69-76.
- Бакаева Э.П. Сакральные коды культуры калмыков. Элиста, 2009.
- Башмакова Н.В. Слово и образ: о творческом мышлении Велимира Хлебникова. Хельсинки, 1987.
- Джангар: калмыцкий героический эпос/пер. с калм. С.И. Липкина. 5-е изд. Элиста, 1989.
- Джангар. Калмыцкий героический эпос. На калмыцком и русском языках. М., 1990.
- Калмыцкое устное народное творчество/сост. Н.Ц. Биткеев. Элиста, 2007.
- Куканова В.В. Буддийские мотивы в творчестве В. Хлебникова//Звуки судьбы: Хлебниковы и Калмыкия. Элиста, 2016. С. 20-25.
- Манджиева Б.Б. Концепт «змея» в фольклорной традиции калмыков и его развитие в произведениях В. Хлебникова//Азийское мировидение Велимира Хлебникова в аспекте калмыцких истоков творчества поэта. Элиста, 2015. С. 204-212.
- Музраева Д.Н. К сравнительному изучению образов птиц в восточной и славянской поэтике (Птицы в поэзии Хлебникова)//Азийское мировидение Велимира Хлебникова в аспекте калмыцких истоков творчества поэта. Элиста, 2015. С. 118-146.
- Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. Ч. 1. СПб., 1773.
- Панов М.В. Сочетание несочетаемого//Мир Велимира Хлебникова: статьи, исследования (1911-1998). М., 2000. С. 303-332.
- Пословицы, поговорки и загадки калмыков России и ойратов Китая/сост., пер. Б.Х. Тодаевой. Элиста, 2007.
- Пюрбеев Г.Ц. Толковый словарь традиционного быта калмыков. Элиста, 1996.
- Сегал (Рудник) Н. «Зверинец» В. Хлебникова: слово и изображение//Toronto Slavic Quarterly. 2011. № 35, Winter. P. 197-257.
- Ханинова Р.М. Калмыцкий компонент в творчестве В. Хлебникова//Творчество Велимира Хлебникова и русская литература ХХ века: поэтика, текстология, традиции: материалы X международных Хлебниковских чтений. Астрахань, 2008. С. 316-319.
- Ханинова Р.М. «Спички судьбы» Велимира Хлебникова: поэтика пламени//Азия в Европе: взаимодействие цивилизаций: научная конференция «Язык, культура и этнос в глобализированном мире: на стыке цивилизаций и времен». Ч. 1. Элиста, 2005. С. 186-192.