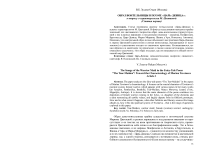Образ воительницы в поэме "Царь-девица": к вопросу о характерологии М. Цветаевой. (статья первая)
Автор: Зусева-Озкан Вероника Борисовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (39), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу поэмы-сказки «Царь-Девица» в аспекте характерологии М. Цветаевой. В фокусе исследования находится крайне значимый для цветаевского творчества образ девы-воительницы (присутствующий у нее в разных вариациях и под разными именами - амазонка, Пенфезилея, Брунгильда, Царь-Девица, Марья Моревна, Жанна д’Арк, Ипполита, Антиопа). Показано, что центральный образ поэмы объединяет две трактовки Царь-Девицы в лирике Цветаевой (дева-стихия и святая воительница, отрекающаяся от всего земного) и существенно отходит от сказочного прототипа. Устанавливается, каким образом и в какой мере это происходит, а также к каким источникам, помимо очевидного сказочного, этот образ отсылает, как он вписывается в общий поэтический мир Цветаевой.
Царь-девица, дева-воительница, андрогин, символистский миф, я. полонский, вл. соловьев, сказка
Короткий адрес: https://sciup.org/14914584
IDR: 14914584
Текст научной статьи Образ воительницы в поэме "Царь-девица": к вопросу о характерологии М. Цветаевой. (статья первая)
Образ девы-воительницы крайне существен в поэтической системе Марины Цветаевой: в разных вариациях и под разными именами он присутствует в ее текстах на всем протяжении ее творческого пути, примеряется Цветаевой на себя лично в ее биографическом мифе. Это и безымянные амазонки, и их царицы Пенфезилея и Антиопа, и Брунгильда, и Жанна д’Арк, и Марья Моревна, и - главное (и по количеству упоминаний, и по их значимости) - Царь-Девица. Сначала она появляется в цветаевской лирике, где, с одной стороны, связывается с мотивами силы, стихии, разбойного своеволия и беззаконности («Коли милым назову - не соскучишь- ся!..»), а с другой - чаще при инвертированной, «омужествленной», номинации «Дева-Царь» - ассоциируется с мотивами мученичества и высокого, святого предназначения, ради которого лирическая героиня отказывается от всего земного («Был мне подан с высоких небес...», «Не по нраву я тебе - и тебе...», «Бог! - Я живу! - Бог! - Значит ты не умер!..»). Но наиболее выпукло и последовательно образ Царь-Девицы разработан Цветаевой в одноименной поэме-сказке (написана в июле-сентябре 1920 г, впервые опубликована в 1922 г. отдельной книгой сразу двумя изданиями - в Москве и в Берлине). Как мы постараемся показать, центральный образ поэмы объединяет обе трактовки Царь-Девицы в лирике Цветаевой и существенно отходит от своего фольклорного прототипа. Каким образом и в какой мере это происходит, а также к каким источникам, помимо очевидного сказочного, этот образ отсылает, как он вписывается в общий поэтический мир Цветаевой - вот основные вопросы, которые мы перед собой ставим.
Главный источник поэмы легко выявляется даже без подсказки самой Цветаевой, которая в письме Ю. Иваску от 4 апреля 1933 г. писала: «.. .материалы Царь-Девицы и Молодца - соответствующие сказки у Афанасьева» (7, 381; здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, тексты М. Цветаевой приводятся по семитомному собранию сочинений, с указанием тома и страниц после цитат1). А из очерка «Нездешний вечер» (1936 г), описывающего события января 1916 г, узнаем, что собрание «Народных русских сказок» А.Н. Афанасьева подарили Цветаевой С.И. Чац-кина, издательница журнала «Северные записки», и ее муж (4, 288).
Сюжет обеих сказок «Царь-девица» из этого сборника (в дореволюционных изданиях №№ 128а и Ь, ныне №№ 232 и 233) строится по типичной циклической схеме «потеря - поиск - обретение». Герой из-за действий вредителей (терминология В.Я. Проппа) - мачехи и дядьки - теряет суженую, царь-девицу, поскольку при встречах с ней неизменно засыпает, когда дядька вкалывает ему в одежду волшебную булавку; отправляется на поиски суженой и с помощью волшебных помощников преодолевает препятствия; обретает чудесную невесту и царство. Состав действующих лиц в обеих сказках весьма схож - за исключением волшебных помощников и дарителей, которые варьируются.
Герой, основной субъект действия, в более краткой сказке № 232 -Иван купеческий сын, в более развернутой № 233 - Василий-царевич; в связи с этим в первой он в финале воцаряется в царстве невесты, а во второй - в собственном. Второй важнейший персонаж - собственно царь-девица, в сказке № 233 просватанная ему родителями 12 лет назад, тогда как в сказке № 232 обручение происходит при первой встрече, когда герой «отправился на плотике по морю охотничать с дядькою»2, причем здесь у нее есть свита из 30 девиц - названых сестриц. Затем вредители, обеспечивающие потерю: дядька и мачеха, при этом в сказке № 232 отец героя жив, а в сказке № 233 умер. Мотивировки вредительства разные: в первой сказке мачехой руководит ревность к царь-девице, а дядька выступает слепым орудием в ее руках, тогда как во второй мачеха «связалась с дядькою»3 и хочет избавиться от Василия-царевича как от наследника цар- ства. Волшебные помощники и дарители варьируются в гораздо большей степени: в сказке № 232 помощники - две бабы-яги, а невольный даритель (снабдитель) - третья баба-яга, у которой Иван купеческий сын выпрашивает три трубы; с их помощью он вызывает жар-птицу, помогающую ему преодолеть часть отделяющего его от царь-девицы пространства; еще один помощник - «старая старуха», чья дочь живет у царь-девицы. Через нее герой узнает, где запрятано яичко с любовью царь-девицы («На той стороне океана-моря стоит дуб, на дубу сундук, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, а в яйце любовь царь-девицы!»4), добывает его, старуха же, пригласив царь-девицу на свои именины, дает ей съесть это яйцо. В сказке № 233 волшебных помощников герой обретает еще до развития основного сюжета; здесь используется частый сказочный мотив благодарных животных: герой освобождает из плена в городской башне льва, змея и ворона, и они помогают ему избежать смерти от колдовских лепешек, испеченных для него мачехой. Даритель - пастух Ивашка, разжалованный покойным царем из воевод; он помогает герою обрести богатырское вооружение и богатырского же коня - еще одного помощника, который переносит героя из царства в царство (освобожденных им льва, змея, ворона и, наконец, царь-девицы). В сказке № 233 имеется еще одно действующее лицо - Иван русский богатырь, вредитель, который тоже хочет жениться на царь-девице и которого Василий-царевич побеждает в бою.
Сюжет двух сказок, как показывает уже и состав действующих лиц, одновременно и весьма схож, и имеет существенные различия в своем мо-тивном развертывании, которые позволяют говорить о том, что Цветаева, контаминировав обе сказки (и оборвав сюжет после первого звена), больше опиралась на № 233. В первую очередь об этом свидетельствует мотив чудесных гуслей, который получит большое значение в цветаевской поэме: с их помощью Василий-царевич в первом сюжетном звене вызывает царь-девицу из-за моря, а в третьем, уже в ее царстве, - в ее любимый сад, где совершается узнавание. Во-вторых, именно в сказке № 233 царь-девица предстает не только как морская царевна, но и воительница («подымала шесть полков, поспешала на свои корабли легкие и пускалась в путь»5), хотя сюжетной роли это не играет. Заметим также, что в сказке № 233 у нее отсутствует родня, зато в конце появляются нянюшки-мамушки (в поэме у Царь-Девицы тоже есть только нянька - стихии ей родня, а не люди). В-третьих, в сказке № 233, как и в поэме, попытки царь-девицы разбудить царевича даются как безуспешные ласки в первом туре («Вот наехала царь-девица, спустила с своего корабля сходни на корабль Василья-царевича, сошла к нему, стала его будить-целовать, на полотнах качать, нежные речи приговаривать; нет, не могла добудиться»6) и как своего рода «морское крещение» во втором («Принялась на него брызгать, обливать холодной водою: авось проснется! Нет, ничего не помогает»7). В-четвертых, в сказке № 233 присутствуют сны героя, в которых ему кажется, будто вокруг него увивается «пичужечка», причем дядька развеивает иллюзию героя (как и в поэме). Вообще в этом варианте сказки птицы появляются как поэтический мотив, связанный с героиней, а не только в качестве персонажей-по- мощников или вредителей: «Понеслись ее корабли по морю, словно птицы быстролетные; за три версты увидал Василий-царевич паруса белые»8(ср.: «Коню на спину с размаху / Белой птицею махнула» (3, 202) - о Царь-Девице).
В-пятых, в сказке № 233 отчетливо проявлена ведьмовская природа мачехи; она стремится не просто разлучить героя с царь-девицей, но погубить его, ради чего печет лепешки на змеином сале, которые превращаются в земных гадов; эта связь мачехи с образом змеи у Цветаевой будет очень отчетливо выраженной. А первоначальная интенция овдовевшего царя, отца героя, который не уверен, «не то сына женить, не то самому жениться»9, напоминает ложную, ведьмовскую свадьбу Царевича и мачехи в поэме, когда царь предлагает свою жену сыну. В-шестых, важное значение имеет локус городской стены; в сказке по ней гуляют Василий-царевич с дядькой, и герой слышит просьбу зверей об освобождении из плена; ночью он спасает их из башни. В поэме на башне городской стены мачеха встречается с Царевичем, дядькой и Ветром, причем Царевич спасает ее от самоубийственного падения. Наконец, в сказке № 232 отсутствует такой важный для сказки № 233 персонаж, как вещий конь; в поэме же коню Царь-Девицы, хоть он и не исполняет сказочную функцию главного волшебного помощника, уделяется много внимания, причем он предстает как часть или ипостась самой героини.
Таким образом, можно констатировать в сказке № 233 целый ряд элементов, которые окажутся так или иначе востребованными в поэме Цветаевой, хотя и получат в ней новое освещение: формульность волшебной сказки с ее несклонностью к мотивировкам и обилием действия уступает у нее место так называемому внутреннему действию, протекающему больше в душах персонажей, чем в виде внешних событий. Многие же из последних (те, что составляют второе и третье звенья сказочного сюжета) оказываются исключенными из поэмы, чем создается совершенно новый финал, отвечающий эстетическим установкам Цветаевой, которая в эссе «Мой Пушкин» (1937 г.) писала: «Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда целовались, всегда - когда расставались» (5, 71).
Уже первые строки поэмы, контаминируя завязки сказок № 232 и № 233 из сборника Афанасьева, включают принципиально новые моменты: пасынок получает черты, которые ни в одной из сказок не прописаны. Во-первых, подчеркивается отсутствие в нем какого-либо молодечества, богатырства, физической удали; во-вторых, намекается на его увлечение игрой на гуслях (тогда как в сказке № 233 герой играет на гуслях лишь для того, чтобы приманить суженую, и они выступают в роли чудесного средства). Мотив глубокой преданности Царевича музыке возникает в поэме не раз. Собственно, герой и определяет себя прежде всего как гусляра, и его мучит своя неадекватность положению царского сына (в этой самореф-лексии героя - наследника царства, как и в его равнодушии к женщинам, нам видится отсылка к Гамлету, каким его представляла Цветаева через уста Офелии - 2, 167):
Не естся яблочко румяно, Не пьются женские уста, Все в пурпуровые туманы Уводит синяя верста.
Каким правителем вам буду, Каким героем-силачом -Я, гусляришка узкогрудый, Не понимающий ни в чем! (3, 196)
Как ни странно, именно гуслярство Царевича притягивает к нему Царь-Девицу, что лишь внешне соответствует сказочному сюжету Это уже не действие волшебства, а - на поверхностном уровне - уверенность героини, что такой жених ее не «осилит», «за прялку не засодит», те. не изменит ее сущности, тогда как на глубинном уровне герои предстают как две стороны одного целого; «Баб не любишь? Драк не любишь? / Ну, тебя-то мне и надо! / Как, к примеру, Дева-Царь я, / Так, выходит, - Царь-ты-Дева!» (3, 201). Об их сужденности друг другу знает дядька-колдун, который на сетования Царевича относительно своей не-мужской, слабой и вялой природы, и на его вопрос «отчего?» отвечает: «- Оттого, что за морями / Царь-Девица живет!» (3, 197). Подразумевается, что встреча с ней должна исцелить его.
Вообще Царевич воспринимает любовные отношения как «подлость» (3, 206). В совокупности с любовью к Царевичу мачехи тут, очевидно, разыгрывается тема Ипполита и Федры - догадка, подкрепляемая свидетельством самой Цветаевой в наброске письма А. Бахраху (июль 1923 г): «Прочтите Ц<арь->Девицу - настаиваю. Где суть? Да в ней, да в нем, да в мачехе, да в трагедии разминовений: ведь все любови - мимо: “Ein Jtingling liebt ein Madchen”. Да мой Jiingling никого не любит, я только таких и люблю, он любит гусли, он брат молодому Давиду и еще больше -Ипполиту»10. Царевич отвергает как подлость то, что он видит как типично женское (покорность, навязчивость, слабость, плотскость, склонность к обману и соблазну и пр.). Но Царь-Девица как раз отличается мужественностью - даже во внешности, так что повествователь, описывая первую (не)встречу героев, недоумевает: «- Гляжу, гляжу, и невдомек: / Девица -где, и где дружок? <.. .> Тот юноша? - лицом кругла, / Тот юноша? - рука мала» (3, 210) и т.д.
Когда Царь-Девица целует Царевича в лоб, «звякнули - выпав из ручек - гусли» (3, 213). Видимо, это свидетельствует о том, что сужденная героям и долженствующая возникнуть при их встрече любовь заставит Царевича обратиться от музыки к «земным плодам», как Царь-Девица отказалась ради них от своих небесных полков. В действительности, однако, встречи не происходит, как не происходит и освобождения героев от двойственности, внутренних противоречий, обусловленных самой их сущностью; как Царевич до конца остается не ведающим любви «гусляром», так Царь-Девица - девой-воином, стихией, которая и хочет быть побеждена другой стихией, другой силой, но не может. [Е. Фарыно проницательно видит в невозможности встречи героев «уязвимую смертью телесность», вообще - невозможность совершенства в земном мире: «Истинная “встреча” возможна только вне телесности, на уровне свободного духа, но для этого надо преодолеть телесность, победить смерть, принимая смерть физическую»11.] Не случайно она, которая вроде бы избирает Царевича как раз за его слабость, говорит, обрызгивая его морской водой:
-
- Морским своим крещением -Младенчика крещу!
Чтоб цельный полк поклал перстом, Чтоб первый гром пред ним ползком, Чтоб Деву-Царь согнул кольцом -Младенчика крещу! (3, 211-212)
[Ср. высказывания Цветаевой о себе. Из записей на полях «Тезея»: «Я всегда хотела слушаться, другой только никогда не хотел властвовать (мало хотел, слабо хотел), чужая слабость поддавалась моей силе, когда моя сила хотела поддаться - чужой»12. Из записной книжки, октябрь-ноябрь 1923 г: «...неудачные встречи, слабые люди. Я всегда хотела служить, всегда исступленно мечтала слушаться, ввериться, быть вне своей воли (своеволия).. ,»13. Из черновой тетради за июль 1924 г: «Итак, Господи, пошли мне высшего и, по возможности, сильнейшего. А потом уж -суди»14. Из письма С. Андрониковой от 22 марта 1927 г: «Вас всегда будут любить слабые, по естественному закону тяготения сильных - к слабым и слабых - к сильным. Последнее notre cas \фр. наш случай. - В. З.-О.], в нас ищут и будут искать опоры. Сила - к силе - редчайшее чудо, на него рассчитывать нельзя» (7, 105) и др.]
Мотив гуслей появляется еще раз в сцене чуть ли не шабаша, в котором Царевича заставляют принять участие отец и мачеха. В песне, исполняемой Царевичем для развлечения призвавшего его царя, преданность гуслям опять противопоставляется как любви к женщинам, так и мирским удовольствиям вообще; возникают сравнение с ангелом и мотив близости царю не земному, а небесному:
Часто я слыхал сквозь дрему
Бабий шепот-шепотеж:
-
- Плохой сын Царю земному, -Знать, Небесному хорош!
Хошь плохой я был наследник -Гуслярок зато лихой!
Паренек-то из последних -
Может, ангел не плохой... (3, 239)
Безумный от хмеля царь сначала не узнает в Царевиче своего сына, а потом едва не умирает от удара, но игра сына на гуслях оживляет его. Вызывает он для своего развлечения и жену, пляска которой схожа с танцем семи покрывал, исполненным Саломеей перед царем Иродом (деталь, очевидно, отсылающая не столько к Евангелию, сколько к пьесе О. Уайльда), - тем более, что царь награждает ее желанным ей Царевичем, как Ирод наградил Саломею головой Иоанна Крестителя. Царь предлагает сыну собственную супругу в жены: «То не девица в когтях у черной немочи - / То Царевича у женских уст застеночек» (3, 246). Если в целом история Царевича и мачехи спроецирована на типологически близкие истории Иосифа Прекрасного/жены Потифара и Ипполита/Федры, то эта сцена третьей ночи отсылает не только к образу Иоанна Крестителя перед Иродом, но и Давида перед царем Саулом - тот так же играл на гуслях перед царем, от которого отступился Бог, чтобы разогнать его тоску (Первая книга Царств 16:14-23).
Таким образом, гуслярство Царевича свидетельствует о его близости к Богу, ангельской сути, защищает его от темных сил, но, с другой, он сам осудит себя в песне перед третьей встречей с Царь-Девицей за надменность к «земным плодам», земной любви:
На перине, на соломе, Середь моря без весла, -Ничего не чтил, окроме Струнного рукомесла.
Ну, а этим уж именьем Пуще хлеба дорожил... Кто к земным плодам надменен -Тот земли не заслужил! (3, 256-257)
Двойственность образа Царевича объясняет и двойственность в обрисовке мачехи, несвойственную обеим сказкам - источникам поэмы. У Цветаевой акценты смещены: главным злодеем является дядька - колдун и оборотень, тогда как образ мачехи по ходу развития действия меняется. Поначалу, пока она спроецирована на Федру, а Царевич - на жестокосердого женоненавистника Ипполита, она обрисована даже с некоторым сочувствием. Она жертва страсти, где страсть - страдание:
Обдери меня на лыко, Псам на ужин изжарь! Хошь, диковинный с музыкой Заведу - кубарь?
Гляжу в зеркальце, дивлюся: Али грудь плоска?
Хочешь, два тебе - на бусы -Подарю глазка? (3, 191)
Но по мере того, как растут ее ревность и злоба, а безответная любовь к Царевичу фактически оборачивается насилием над ним, мачеха все больше превращается в ведьму В конце поэмы она перевоплощается в змею, хотя этот образ сопутствовал ей изначально: «Как у молодой змеи - да старый уж, / Как у молодой жены - да старый муж...» (3, 190); «Как змеи, свищут косы» (3, 224); «С змеищей вперегиб / Не стой в ночи! / Шелками шит, змеей зашит / Твой вороток!» (3, 251) и др.
Этому движению к отрицательному полюсу соответствует убывание любовно-материнского элемента в отношении мачехи к Царевичу, сперва роднившего ее с Царь-Девицей, и возрастание просто страстного. Изначально обе отчасти видят Царевича как свое дитя. Мачеха сетует первой ночью: «Отчего тебе не мать родная / Я, а мачеха? / На кроваточке одной / Сынок с матушкой родной» (3, 190-191). [Е. Фарыно, проанализировавший «Царь-Девицу» с точки зрения мифологической семантики и полагающий, что действие поэмы происходит в подземном мире, видит в мачехе одновременно и мать Царевича: «Вся эта сцена (угроза самоубийства мачехи на башне - В. З.-О.), думается, рассекречивается так: Мачеха в беспамятстве повторяет прежнее свое самоубийство <...>. Не исключено, что здесь переигрывается сцена гибели Матери Царевича и что этой Матерью была некогда сама Мачеха <...>, которая, попав в подземное царство, забыла как свое прошлое, так и о сыне, и потеряла способность узнавания...»15. Эту гипотезу можно было бы косвенно подтвердить и органичностью для сказочного материала злокозненности матери. Так, в сказке из сборника А.А. Эрленвейна «Димитрий Михайлович и Удал-Добрый-Мо-лодец» (№ 12) на тот же сюжет о царь-девице, что и в разбираемых выше афанасьевских сказках, козни герою строит именно его мать16.]
Царь-Девица тоже умиляется Царевичу, как дитяте: «Уж такого из тебя детину вынянчу, / Паутинка ты моя, тростинка, шелковиночка!» (3, 209); «Аукала, агукала, / На жар-груди баюкала» (3, 215); «Над орленком своим - орлица, / Над Царевичем - Царь-Девица» (3, 259); «Ребенок, здесь спящий, / Мой - в море и в чаще» (3, 259) и т.д. Отметим, что в кругозоре Цветаевой это сочетание двух оттенков любви гарантирует ее высочайшую пробу, способность к самопожертвованию (ср. с ее высказываниями о себе: «Моя любовь - это страстное материнство, не имеющее никакого отношения к детям» (4, 581); «.. .мужчины не умели меня любить - да может быть ия- их: я любила ангелов и демонов, которыми они не были - и своих сыновей - которыми они были» - 7, 510). Но если мачеха эту способность теряет, то Царь-Девица до конца сохраняет материнский оттенок в отношении к Царевичу: перед тем, как вырвать себе сердце, она осеняет его крестом «любви бескорыстной, / Которым нас матери крестят: -Живи!» (3, 263).
Царевич же, хоть и до конца остается скорее объектом любви, чем ее субъектом, персонажем довольно инфантильным, пассивным и страдательным, все же испытывает бодрящее влияние Царь-Девицы. Так, после первой встречи с ней он останавливает мачеху, которая грозит сброситься 78
с башни. Утром перед второй встречей с Царь-Девицей герой встает необычайно бодрым («Хоть не спал, а выспался! / Хоть враз под венец!», 3, 227), выказывает совершенно не характерный для него гнев по отношению к дядьке. Перед третьей встречей Царевич прямо бунтует и против себя прежнего, и против мачехи с дядькой, причем появляется явно рудиментарный здесь мотив поединка:
-
- Выходи - сам хан татарский -Поравняюсь силою!
Возводи меня на царство, Рать ширококрылая! (3, 257)
Он весьма показателен, поскольку в наиболее частотной вариации сюжета о деве-воительнице поединок разыгрывается между нею и героем, и только в результате своего поражения она может сдаться любви. В «Царь-Девице», однако, герой так и не вступает ни в какое единоборство: его вновь осиливает колдовство мачехи. Но, когда дядька раскрывает ему случившееся, он убивает его и совершает другой решительный поступок -бросается в море. В сочетании с гуслярством Царевича можно усмотреть здесь некоторые отголоски былины о Садко (и, возможно, оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова, где заглавный герой влюблен в морскую царевну Волхову - чего в былинах нет; кстати, в опере она поет над сонным героем колыбельную, прежде чем превратиться в реку и навеки разлучиться с ним). Былину эту Цветаева знала, как свидетельствуют посвящение к поэме «Молодец»: «.. .за игру за твою великую, / за утехи твои за нежные...» (3, 280) - и письмо к Б. Пастернаку от 26 мая 1925 г: «А ты знаешь, откуда посвящение к “Молодцу”? Из русской былины “Морской царь и Садко”» (6, 246). Прыжок Царевича в море может быть объяснен не только самоубийственной интенцией, но в большей степени попыткой удержать Царь-Девицу. Тем более - птицы и само море обещали герою силу и власть над морской стихией:
Все море в грудь твою взойдет, -И будешь ты Не Царский сын:
Морской король (3, 251).
Так что, хотя герой не превращается в традиционного сказочного богатыря, выручающего царевну, и до самого финала остается для Царь-Девицы «ребенком», он в каком-то смысле является ей ровней, парой - пусть это пара и «разрозненная», по выражению Цветаевой.
Об этом положении вещей достаточно отчетливо свидетельствует символический ряд поэмы, в котором героям соответствуют парные значения. Так, оба они имеют царское достоинство; более того, выступают как символические брат и сестра, что крайне показательно для Цветаевой, у которой этот (псевдо)инцестуальный мотив неизменно связывается с моти- вом равенства (ср., например, стихотворения «Сестра», «Брат», «Клинок» 1923 г). В песне перед второй встречей Царевич поет: «Сжалилась над братом тощим / Мощная моя сестра» (3, 231); Царь-Девица спрашивает Ветра: «Есть ли где, касатик, / Меж царей мне братец, / Меж девиц - сестра?» (3, 253).
«Царственность» центральных героев имеет и символически-зоо-морфный аспект. Царь-Девица неоднократно называется «орлицей»; «Брови сильные стянув, / Взор свой - как орлица клюв - / В спящего вонзает» (3, 233); «Над орленком своим - орлица, / Над Царевичем - Царь-Девица» (3, 259) и др. А Царевич - «лебедем» или «лебединым царем»: «Лежит Царевич мой бессонный, / Как лебедь крылья разбросал» (3, 195); «Не Царевич к челну - / Лебедь к лебедю льнет» (3, 231). Те. мы имеем отношения силы - слабости, но при этом глубинного родства. Менее выражена парность львиных ассоциаций Царь-Девицы («Как не я тебя, а львица / Львиным молоком вскормила!» (3, 199); «Девичий-свой-львиный / Покажи захват!» - 3, 262) и ягнячьих - Царевича («Хочет встать, а сон-то клонит, / Как ягненочка на травку» (3, 207); «Сын ли с батюшкой, аль с львом красным - лань?» - 3, 239), но и она имеет место, что опять же устанавливает между героями - при всей разности сил - отношения родства, общей принадлежности к иному, сакральному, миру.
Морская природа Царь-Девицы неоднократно подчеркивается Цветаевой. Живет она «за морями» (3, 197); когда мы ее видим впервые, она чистит саблю «у окна сваво, над взморьем» (3, 199); как и в обеих сказках афанасьевского сборника, встречи с Царевичем происходят в море. В первую встречу она крестит спящего Царевича «морским своим крещением» (3, 211). После второй встречи прямо сказано, что Царь-Девица отправляется «в дом свой морской - домой» (3, 235). Сцена ее гнева при третьей встрече сопровождается бурей на море. А когда она вырывает себе сердце, то бросает его в морскую хлябь, совершая символический жест возвращения в родную стихию и отказа от человеческих, земных чувств, причем Царевич, проснувшись, спрашивает: «Что за сноп / Из воды, за лучи-застрелы? / Середь моря, что ль, солнце село?» (3, 262): образ Царь-Девицы подчеркнуто солярный, да и в мифологических представлениях широко распространено поверье, что солнце живет за морем.
Подчеркивая морскую природу Царь-Девицы, Цветаева следует за традицией. Связь этого образа с морем проявлена в фольклоре: «Живет Царь-девица в очень отдаленных полуденных краях, “за тридеветь земель, за тридеветь морей” <...>, “за огняным морем” <...>, в Подсолнечном, или Девичьем, царстве»17. То же самое находим в литературной традиции. У П. Ершова в «Коньке-Горбунке» (1834 г):
Тут сказал конек Ивану: «Вот дорога к окияну, И на нем-то круглый год Та красавица живет; Два раза она лишь сходит
С окиянаи приводит Долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам»18.
У В.Ф. Одоевского в трагедии для театра марионеток «Царь-Девица» (1837 г): «Театр представляет богатые покои Царь-Девицы; из окошек видно море...»; «На море появляется пароход с солдатами Царь-Девицы»19 и пр. У М.Ю. Лермонтова в стихотворении «Дубовый листок оторвался от ветки родимой...» (1841 г):
У Черного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская;
На ветвях зеленых качаются райские птицы;
Поют они песни про славу морской царь-девицы20.
Интересно, что птицы и само море, соблазняя Царевича перед третьей встречей с Царь-Девицей броситься в пучину, сулят ему морское владычество; «Клади себе взамен подушки / Мою широкую зарю! / Тебе в игрушки-погремушки / Я само солнце подарю! / Не будет вольным володеньям / Твоим ни краю, ни конца...» (3, 251).
Но наиболее очевидное проявление парности Царь-Девицы и Царевича - это солярная и лунная символика соответственно, многократно отмечавшаяся исследователями. Царь-Девица представлена как солярная героиня: «Просияла Царь-Девица: / Терем враз озолотила» (3, 201); «Одним своим лучом единым / Мы светел-месяц полоним» (3, 202) - о любовном «завоевании» Царевича; «С подсолнечником равен лик» (3, 202); «То не солнце по златым ступеням - / Сходит Дева-Царь по красным сходням» (3, 207); «Ногой легкою - скок / Домой, в красный чертог» (3, 214) и др.
Встречам Царь-Девицы и Царевича неизменно сопутствует мотив солнечного ожога. Ее поцелуй при первой встрече оставляет огненную печать на лбу Царевича, при второй - на его губах. Солярная символика присутствует и в мотиве золотых волос Царь-Девицы, которые она дарит спящему Царевичу на струны для гуслей. Слабые руки Царевича роняют их в морскую пучину, что предсказывает его неспособность удержать ее, неизбежную разлуку: «Меж Солнцем и Месяцем / Верста пролегла» (3, 214). Ведь если Царь-Девица олицетворяет солнце, то Царевич - месяц; «До любви нелакомый, / Себе немил - / Видно, месяц, плакамши, / Слезой обронил» (3, 198); «- Ох, бел ты мой месяц, / Меловой пирожок!» (3, 215); «Мать рожала - не тужила: / Не дитя, - дымочек-дым! / Словно кто мне налил жилы / Светом месячным сквозным» (3, 230) и др.
Вообще солярная символика чаще сопутствует мужскому персонажу, лунная - женскому, у Цветаевой же происходит мена ролями, как это видно и по другим критериям парности Царь-Девицы и Царевича (орлица -лебедь, львица - ягненок). Отчасти это напоминает вегетативный вариант циклического сюжета, сформулированный О.М. Фрейденберг (но без фазы обретения, когда вегетативное, пассивное божество спасается активным героем или героиней), особенно учитывая мертвый сон Царевича - мотив временной смерти - и сопутствующие герою «растительные» сравнения: «Не говоря уже обо “льне” и “маковочке” <...>, Царевич то и дело именуется “тросточкой” <...>, “стеблем”, “стерженьком” <...>, “былинкой” <...>, “травиночкой” <...>, “сосенкой” <...>, “одуванчиком” и “цветиком”»21. В этом «мифологическом» свете стяжение фазы поиска до прыжка Царевича в море и отсутствие фазы обретения получают катастрофический отсвет и выявляют общее состояние мира в поэме, близящегося к своему концу (ведь Царевич оказывается так и не спасенным страдающим богом).
Можно говорить и о сходстве с так называемым «дополнительным» символистским мифом; если по «основному» мифу русского символизма, имеющему корни в гностицизме22, герой спасает пленную Душу Мира, персонифицируемую в образе девы, то, согласно «дополнительному» мифу, напротив, героиня «софийного» типа спасает заплутавшего, потерявшегося, изменившего, «сонного» героя. Собственно, ситуация поэмы парадоксально близка той, что складывается в стихотворении Вл. Соловьева «У царицы моей есть высокий дворец...» (1875-1876 гг):
.. .И бросает она свой алмазный венец, Оставляет чертог золотой
И к неверному другу, - нежданный пришлец, Благодатной стучится рукой.
И над мрачной зимой молодая весна -Вся сияя, склонилась над ним И покрыла его, тихой ласки полна, Лучезарным покровом своим.
«Знаю, воля твоя волн морских не верней: Ты мне верность клялся сохранить, Клятве ты изменил, - но изменой своей Мог ли сердце мое изменить?»23
Напомним, что Соловьев был автором критического очерка «Поэзия Я.П. Полонского» (1896 г), в котором он специально останавливается на его стихотворении «Царь-девица» (1876 г). Довольно отчетливо прочитывается, что в героине этого стихотворения философ видит одно из явлений Софии, которую Полонский, по его мнению, предчувствовал, сам того не осознавая: «Счастлив поэт, который не потерял веры в женственную Тень Божества, не изменил вечно юной Царь-девице: и она ему не изменит и сохранит юность сердца и в ранние, и в поздние годы»24. Таким образом, Полонский предстает как бы предшественником Соловьева. Между тем, в изображении Полонского Царь-девица, отнюдь не будучи воительницей, делит с Царь-Девицей Цветаевой следующую особенность: она тоже дважды дарит герою поцелуи-ожоги - в лоб и в уста.
.. .Но едва-едва успел я Блеск лица ее поймать, Ускользая, гостья ко лбу Мне прижгла свою печать.
С той поры ее печати Мне ничем уже не смыть, Вечно юной царь-девице Я не в силах изменить...
Жду, - вторичным поцелуем Заградив мои уста, -Красота в свой тайный терем Мне отворит ворота...25
Цветаева, несомненно, знала поэзию Полонского (например, в статье «Поэт и время» она цитирует его стихотворение «В альбом К. Ш.»), как и Соловьева, так что вряд ли стоит говорить о совпадении - скорее о заимствовании мотива (причем если «Царь-девица» Полонского аллегорически изображает захваченность искусством и красотой творчества, то и в «Царь-Девице» Цветаевой эта тема тоже очень важна, хоть и решается не аллегорически: поэт, певец в данном случае - Царевич, и Царь-Девица влюбляется в него и видит его ровней себе именно благодаря его гусляр-ству, но преданность музыке, как явлению небесному, оказывается несовместимой с земной любовью). Из сказанного можно заключить, что символистское прочтение ситуации слабого героя и спасающей его могущественной героини, притом имеющей божественную сущность, Цветаевой, видимо, было знакомо. Принципиально, однако, что в «Царь-Девице» эта ситуация не разрешается ожидаемым событием: героине вовремя «разбудить» Царевича не удается - напротив, его слабость трагически побеждает ее силу;
Вихрь-жар-град-гром была, -За все наказана!
Войска в полон брала, -Былинкой связана! (3, 235)
У Цветаевой создается очень сложный и противоречивый мотивно-об-разный комплекс. Царь-Девица предстает не столько «софийной» девой, сколько стихийной героиней. При определенной оптике ее можно отчасти увидеть как Софию в падении, в затмении - какова, например, Фаина у А. Блока, - но такая героиня сама подлежит спасению героем; точнее будет сказать, что в «Царь-Девице» герои предназначены взаимно спасти друг друга - отсюда, возможно, и их гендерная проблематичность, создающая взаимоналожение основного и дополнительного символистских мифов.
Такой тип героини - лихая, разбойная амазонка - характерен для творчества Цветаевой начиная уже с раннего стихотворения «Молитва» (1909 г). Вообще идеальный женский образ Цветаевой - дева-воин, соединяющая в себе черты обоих полов; с ней неизменно связываются мотивы силы, свободы, стихии, разбойного своеволия и беззаконности. Таковы, например, героини стихотворений «Дикая воля» (ок. 1909-1910 гг), «Коли милым назову - не соскучишься!» (1916-1921 гг), «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...» (1916 г), «Бог, внемли рабе послушной!..» (1920 г.) и др. Одновременно с этой «языческой» трактовкой дева-воин -отчасти в силу как раз своей «двуполости», андрогинности26, непринадлежности вполне ни к одному из двух полов и, в конечном счете, преодолению пола («Пол, это то, что должно быть переборото, плоть, это то, что я отрясаю»; «Если пол, - то что же ангелы?» - 6, 530) - получает у Цветаевой черты ангельские, христианские («Был мне подан с высоких небес...», 1918 г; «Любовь! Любовь! Куда ушла ты...», 1918 г; «Доблесть и девственность! - Сей союз...», 1918 г; «Свинцовый полдень деревенский...», 1918 г; «Бог! - Я живу! - Бог! - Значит ты не умер!..», 1919 г; и др.). Часто эти две трактовки контаминируются (как, например, в стихотворении 1918 г. «Серафим - на орла! Вот бой!..» или в поэме «На красном коне» 1921 г), и героиня-воительница сочетает языческие и христианские, демонические и ангельские черты. В «Царь-Девице», на первый взгляд, доминирует первая из названных тенденций, но чем дальше, тем более отчетливо вырисовывается и вторая; их взаимодействие влияет и на расстановку действующих лиц, и на развитие сюжета.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-18-02709) и в ИМЛИ РАН.
Список литературы Образ воительницы в поэме "Царь-девица": к вопросу о характерологии М. Цветаевой. (статья первая)
- Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. М., 1994-1997
- Царь-девица: № 232//Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: в 3 т. М., 1984-1985. Т. 2. С. 182
- Царь-девица: № 233//Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: в 3 т. М., 1984-1985. Т. 2. С. 185
- Царь-девица: № 232//Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: в 3 т. М., 1984-1985. Т. 2. С. 185
- Царь-девица: № 233//Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: в 3 т. М., 1984-1985. Т. 2. С. 186
- Царь-девица: № 233//Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: в 3 т. М., 1984-1985. Т. 2. С. 186
- Царь-девица: № 233//Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: в 3 т. М., 1984-1985. Т. 2. С. 187
- Царь-девица: № 233//Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: в 3 т. М., 1984-1985. Т. 2. С. 187
- Царь-девица: № 233//Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: в 3 т. М., 1984-1985. Т. 2. С. 185
- Цветаева М. Неизданное. М., 1997. С. 184
- Faryno J. Мифологизм и теологизм Цветаевой («Магдалина» -«Царь-Девица» -«Переулочки»). Wien, 1985. С. 231
- Цветаева М. Неизданное. М., 1997. С. 254
- Цветаева М. Неизданное. М., 1997. С. 259
- Цветаева М. Неизданное. М., 1997. С. 318
- Faryno J. Мифологизм и теологизм Цветаевой («Магдалина» -«Царь-Девица» -«Переулочки»). Wien, 1985. C. 156
- Народныя сказки, собранныя сельскими учителями/издание А.А. Эрленвейна. М., 1863. С. 50-72
- Новиков Н.В. Образы восточнославянской волшебной сказки. Л., 1974. С. 71
- Ершов П.П. Конек-Горбунок. М., 1969. С. 74
- Одоевский В.Ф. Царь-Девица//Игра: Не периодическое издание, посвященное воспитанию посредством игры. Петербург, 1920. № 3. С. 124, 129
- Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. М., 1957. Т. 1. С. 77
- Faryno J. Мифологизм и теологизм Цветаевой («Магдалина» -«Царь-Девица» -«Переулочки»). Wien, 1985. С. 203
- Магомедова Д.М. Блок и гностики//Магомедова Д.М. Автобиографический миф в творчестве Александра Блока. М., 1997. С. 70-83
- Соловьев Вл. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 62
- Соловьев В.С. Литературная критика. М., 1990. С. 157
- Полонский Я.П. Полное собрание стихотворений. СПб., 1896. Т. 2. С. 201-203
- Kroth A.M. Androgyny as an Examplary Feature of Marina Tsvetaeva’s Dichotomous Poetic Vision//Slavic Review. 1979. Vol. 38. №. 4. P. 563-582;
- Dinega A.W. A Russian Psyche: The Poetic Mind of Marina Tsvetaeva. Madison, 2001
- Gove A. The Feminine Stereotype and Beyond: Role Conflict and Resolution in the Poetics of Marina Tsvetaeva//Slavic Review. 1977. Vol. 36. № 2. P. 231-255
- Шевеленко И. Литературный путь Цветаевой. М., 2015. С. 71, 134-137, 168, 181, 259
- Полякова С.В. К вопросу об источниках поэмы Цветаевой «Царь-Девица»//Russica-81: литературный сборник. New York, 1982. C. 222-228
- Ельницкая С. Поэтический мир Цветаевой: конфликт лирического героя и действительности. Wien, 1990. С. 102, 332