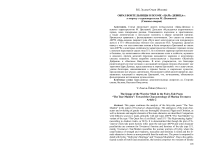Образ воительницы в поэме "Царь-девица": к вопросу о характерологии М. Цветаевой (статья вторая)
Автор: Зусева-Озкан Вероника Борисовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (40), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья продолжает анализ поэмы-сказки «Царь-Девица» в аспекте характерологии М. Цветаевой. Детально обсуждаются андрогинность героев, мена гендерными ролями. Описываются языческие и христианские, а также демонические и ангельские элементы в образе заглавной героини. Проводится сравнение с фольклорными источниками. Это сказки на сюжеты 400*В «Царь-девица» (вариант типа «Муж ищет исчезнувшую или похищенную жену») и 551 «Молодильные яблоки» (по указателю Н.П. Андреева). Делается вывод о том, что если сюжетная основа и была почерпнута Цветаевой из сказок типа 400*В, а некоторые особенности характерологии сближают героиню поэмы с женским персонажем сказок типа 551, то в основном характер героини восходит к былинам, где испытывается обычное соотношение силы и слабости, мужского и женского, причем женский персонаж оказывается заведомо и неоспоримо сильнее мужского. Поэма подробно сопоставляется с былинами «Женитьба Добрыни» и «Настасья Никулична». В итоге утверждается, что благодаря разветвленной системе мотивов и ассоциаций заглавная героиня объединяет две трактовки Царь-Девицы, представленные в лирике Цветаевой: это и дева-стихия, удалая богатырка, напоминающая о героине былин, и сакральное существо, преодолевшее все земное, святой воин. Поэма являет собой апогей первой из двух названных тенденций в творчестве Цветаевой, что, по-видимому, объясняется фольклорными источниками поэмы-сказки.
Царь-девица, дева-воительница, андрогин, св. георгий, сказка, былина, настасья никулична
Короткий адрес: https://sciup.org/14914587
IDR: 14914587
Текст научной статьи Образ воительницы в поэме "Царь-девица": к вопросу о характерологии М. Цветаевой (статья вторая)
В статье первой этого двухчастного цикла1 мы попытались проанализировать систему мотивов и сюжет поэмы М. Цветаевой «Царь-Девица» с акцентом на характерологию, соотнеся их, с одной стороны, с константами цветаевского поэтического мира, а с другой - с непосредственным источником поэмы, а именно с двумя сказками из собрания А.Н. Афанасьева. Попробуем теперь рассмотреть центральный характер поэмы на более широком фоне - в соотнесении с образом воительницы в фольклоре, а именно в сказках вообще и в былинах: как нам представляется, поэма дает для этого все основания. Но сначала отметим сакральные и языческие элементы ее облика - на обсуждении полубожественной природы героини мы остановились в первой статье.
Царь-Девица у Цветаевой имеет отчетливо мужские и разбойничьи черты, например: «Дева всех впереди! / Великановый рост, / Пояс - змей-самохлест, / Головою до звезд, / С головы конский хвост, / Месяц в ухе серьгой...» (3, 194; здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, тексты М. Цветаевой приводятся по семитомному собранию сочинений, с указанием тома и страниц после цитат2). Принципиально, однако, что одновременно здесь явлен и мотив «чудесного одевания» «светом, солнцем, зарей, облаком или месяцем»3 и шествия в окружении светил: «Одеваясь светом, человек не только уподобляется Саваофу и Христу, но и получает их силу и власть и облекается небесной славой»4. Мужские особенности физического облика Царь-Девицы неоднократно подчеркиваются: «Под военной да под веской стопой / Чуть не треснул весь челнок скорлупой» (3, 207); «В грудь, прямую как доска, / Втиснула два кулачка» (3, 234); «Всей крепостью неженских уст / Уста прижгла» (3, 235). В том, девица она или муж, сомневаются морские обитатели: «Каску хвостатую ветр ему сшиб набекрень, / Ростом-то - башня, в плечах-то косая сажень!» (3, 205). Как порой и другие персонажи (например, нянька Царь-Девицы, ее воинство, Царевич в своем видении после третьей встречи), они говорят о ней в мужском роде, что объясняется, разумеется, и грамматически - согласованием по слову «царь», и семантически - андрогинностью героини, чьи мужские черты особенно рельефно выступают в органичной ей обстановке - в собственном царстве, на военном смотре, на корабле.
В начале поэмы нянька Царь-Девицы сетует на ее времяпрепровождение, больше подходящее для мужчины - разбойника и безбожника:
День встает - врага сражаешь, Полдень бьет - по чащам рыщешь, Вечер пал - по хлябям пляшешь, Полночь в дом - с полком пируешь.
Люди спать - ты саблю точишь, В церковь - псов из ручек кормишь (3, 199).
Языческая «безбожность» героини подчеркнута и тем, что своей родней она считает не людей, а стихии;
Огнь - отец мне, Вода - матерь, Ветер - брат мне, сестра - Буря. Мне другой родни не надо! (3, 200)
«Нареченный брат» ее Ветер, одновременно оказывающийся ревнивым женихом (у Цветаевой мотив равенства обычно сочетается с братско-сестринской любовной связью), предстает одним из ключевых персонажей поэмы. Он всячески напоминает Царь-Девице о недостойное™ обычных женских забот и зовет соединиться с ним - ровней: «Ты - наш цвет военный! / Я - твой неизменный!» (3, 254); «- Будет тебе руки / Марать бабьим делом!» (3, 254). Крылатый и бестелесный, он и своенравная стихия, и чистое божество. Когда же любовь к Царевичу все-таки побеждает, Царь-Девица говорит Ветру: «Тебе путь - к Восходу, / Ну, а мне - к Закату!» (3, 257), что крайне интересно в контексте цветаевского творчества, где слово «Восход» с большой буквы имеет специфические коннотации. Так, оно появляется в поэме «На красном коне», где героиня - тоже воительница:
Сей страшен союз. - В черноте рва Лежу - а Восход светел. О кто невесомых моих два Крыла за плечом -Взвесил? (3, 23)
И в стихотворении «Странноприимница высоких душ...» (1921 г), последнем в цикле «Георгий»:
Сестра высокомерная! Шагов Не помнящая......................... Земля, земля Героев и Богов, Амфитеатр моего Восхода! (1, 44)
В обоих случаях речь идет о духовном выборе героини, которая отрекается от всего земного ради высокого служения. Царь-Девица же, напротив, отказывается от своей божественной ипостаси ради земной любви к Царевичу - и именно поэтому говорит о своем Закате. Когда же она вырывает себе сердце, то возвращается в стихию, из которой вышла:
Довольно, знать, по гусляру Рвать волоса!
В грудь - сквозь сердечную дыру -Ветр ворвался! (3, 262)
Наконец, «стихийность» героини подчеркивается мотивом ее единства (вплоть до «кентаврообразности») с любимым белым конем: «Конь с Девицею точно сросся; / Не различишь, коли вдали: / Хвост конский, али семишёрстый / Султан с девичьей головы!» (3, 203). Он назван «Вихорь-Конь», тогда как среди различных номинаций героини есть и «Вихрь-Девица» (3, 199).
Вообще мотив всадника очень важен для Цветаевой, и он часто связывается у нее с образом святого воина, в частности, св. Георгия; те. это не просто языческая стихийность, но соединение языческого и христианского. Так, когда Царь-Девица появляется в пространстве поэмы впервые, она описана следующим образом: «На плече на правом - голубь, / На плече на левом - кречет» (3, 199): она равно принадлежит стихии Св. Духа и языческого хищничества, воплощает и кротость, и грозу.
В некоторых местах поэмы она предстает именно как святой воин: «Грудь в светлых латах, лоб - обломом, / С подсолнечником равен лик. / Как из одной груди тут громом: / “Сам Михаил-Архистратиг!”» (3, 202. Строго говоря, Михаил Архистратиг - архангел, а не святой воин наподобие свв. Георгия, Феодора Стратилата, Феодора Тирона, Димитрия Солун-ского, Маврикия, однако считается главой небесного воинства и в таком качестве с ними ассоциируется.) О войске Царь-Девицы сказано: «Как облачная рать в лазури - / Полк за полком, полк за полком» (3, 203); а прощание с ней полков описано как епифания:
Словно лик какой явленный -Все склоняются колена.
Словно реки в половодье -Слезы светлые текут (3, 203).
В видении Царевича в финале поэмы Царь-Девица почти до конца остается в мужском облике божественного воина. Видение первой встречи:
И дивного мужа под красным шатром
Он видит - как золотом-писанный-краской!
И светлые латы под огненной каской,
И красную каску на красных кудрях... (3, 262)
Второй встречи:
Вот-вот уж носами сшибутся суда...
Сошлись - и как древнего времени чудо -Тот муж светоносный в челнок белогрудый Нисходит - склоняется - сдернул покров... (3, 262)
Третьей:
По грозному небу - как кистью златой -Над Ангелом - Воин из стали литой (3, 263).
Это третье описание является вариацией строк, которые уже дважды повторялись в поэме с вроде бы небольшими, но важными изменениями. В первый раз дядька задается вопросом, увидев Царь-Девицу с помощью колдовства - в своем плевке:
Посередке же, с простертой рукой -Не то Ангел, не то Воин какой.
Что за притча? Что за гость-за-сосед?
Не то в латы, не то в ризы одет! (3, 192-193)
Затем рыбы обсуждают корабль Царь-Девицы, плывущей на встречу с Царевичем:
А под шатром-то, с лицом-то как шар золотой, Что там за Воин - за Ангел - за Демон такой? (3, 205)
Таким образом, константой остается представление о Царь-Девице как о светоносном воине, тогда как ангельские и демонические черты ее мерцают. В первом случае дядька сомневается, кто перед ним - не ангел ли, но за этим в его речи следует аллюзия на Апокалипсис (Откр. 13:1): «Как начнет в волнах / Дева-Зверь вставать...» (3, 195), которую подхватывает мачеха: «Всё ж на Зверь-Солдатку / Не откроешь глаз...» (3, 199). Разумеется, подобные именования можно списать на недоброжелательство этих персонажей по отношению к Царь-Девице, но она и сама в разговоре с нянькой аттестует себя так: «- Нянька ты, а я - Царь-Демон!» (3, 200). В разговоре рыб учитываются обе потенции ее личности: и ангельская, и демоническая. Наконец, в видении Царевича, когда его зрение впервые проясняется, сохраняется лишь основная характеристика Царь-Девицы как воина, тогда как ангелом предстает сам Царевич. Клятва Царь-Девицы над спящим Царевичем в третью их встречу с последующей сценой ее ревности и буйства напоминает клятву Демона из одноименной поэмы Лермонтова: как и Демон, она клянется перед лицом «неба и ада»; оба апеллируют к мировым силам, оперируют гигантскими, грандиозными образами; оба дают клятву любимому существу с позиции сильного, парадоксально зависящего от слабого, и заявляют на него свои права (Демон: «И гордо в дерзости безумной / Он говорит: “Она моя!”»5; Царь-Девица: «Ветер - воды - огонь - земля, / Эта спящая кровь - моя!», 3, 259 и т. д.); наконец, оба терпят поражение. Таким образом, в отношении Царевича и Царь-Девицы до конца сохраняется своего рода парность, глубинное родство: образы ангела и демона (причем Царь-Девица заключает в себе обе потенции - как светоносный воин и как дева-стихия) создают еще одну символическую параллель между ними.
Хотя, с одной стороны, Царь-Девица желает от Царевича вполне земной любви («И ладит, и гладит, / Долг девичий плотит. / Ресницами в самые веки щекотит», 3, 210; «Оттого что бабам в любовный час / Рот горячий-алый - дороже глаз, / Все мы к райским плодам ревнивы, / А гордячки-то - особливо!», 3, 236), по которой вроде бы тоскует и герой, томимый сознанием своей чрезмерной чистоты (которую он ощущает даже и как мертвенность: «Снеговее скатерти, / Мертвец - весь сказ!», 3, 197), оба персонажа не могут отрешиться от своей природы, застыли в вечной двойственности. В конечном итоге они предстают ровней, предназначенной от века «разрозненной парой», причем парой сверхъестественной, полубоже-ственной: недоумение повествователя при первой встрече героев («Девица - где, и где дружок?») разрешается вопросом:
А ну как зорче поглядим -И вовсе все обман один,
И вовсе над туманом - дым, Над херувимом - серафим? (3,210)
И херувим, и серафим - существа, близкие Божеству, причем их сущность, согласно христианским представлениям, поразительно соответствует тому, какими выведены Царевич и Царь-Девица: херувим - дитя и «песнословец», серафим - воинственный, «пылающий», «огненный» дух. Лирическая героиня Цветаевой нередко ассоциирует себя именно с серафимом (см., например, стихотворения «Серафим - на орла! Вот бой!..», «Не называй меня никому...», «Быть голубкой его орлиной...»). Любопытно, что свидетельством принадлежности обоих героев, в конечном счете, царству души, некоему сакральному плану, в котором стихийное и божественное - одно, предстает мена гендерными ролями.
Такая характерология определяет сюжет поэмы. Казалось бы, воинственная сущность Царь-Девицы не влияет на события (как и в сказках-источниках), ведь основная функция воительницы - ведение войны, боя, поединка и пр.: у Цветаевой героиня не совершает воинских подвигов, не участвует в поединках, не испытывает героя силой (традиционный мотив в сюжете сватовства к богатырше). Но сюжет здесь двигается не столько событиями, сколько характерами персонажей. Именно потому, что Царь-Девица - дева-воин и, так сказать, «дева-муж», она вплоть до трагического финала сохраняет двойственность, испытывает внутренние противоречия - она и хочет приобщиться к женскому и земному миру любви, и до конца остается небесным воином и полубожеством. Царевич же, хотя и стремится стать в полной мере мужем и избавиться от своей полуангель-ской сущности, вплоть до финала не знает земной любви. В финале Царь-Девица окончательно освобождается от земного и плотского, а Царевич, наоборот, постигает, наконец, могшую осуществиться любовь и обретает мужественность - решительно бросается в морскую пучину «добывать свое добро».
ПО
Как мы утверждали в другой работе6, образ девы-воина - своего рода оксюморон, ибо воинская доблесть и физическая сила - традиционно мужские атрибуты. Связанные с этим образом сюжеты испытывают обычное соотношение силы и слабости, мужского и женского, причем в одном из трех вариантов такого испытания женский персонаж заведомо и неоспоримо сильнее мужского; в таком случае основными мотивами являются встреча и брачное решение, которое нередко принимается именно героиней. Этот тип сюжета более характерен, однако, не для сказки с ее жесткой структурой и непременной «героецентричностью»7 (Е.С. Новик), а для былины.
Вообще сказки из сборника Афанасьева, на которые, по собственному ее признанию, опиралась Цветаева, относятся к типу 400 в указателе сказочных сюжетов Аарне, обозначаемому как «Муж ищет исчезнувшую или похищенную жену». По адаптированному указателю Н.П. Андреева, это подтип 400*В: «Царь-девица: герой обручается с царь-девицей, но трижды просыпает свидание с ней, усыпленный врагом; царь-девица исчезает, он отыскивает ее с помощью животных или волшебных предметов»8. Здесь, как понятно уже из этой краткой формулы, воинская природа Царь-девицы никакой сюжетной роли не играет и даже не удостаивается специального описания; героиня - лишь утраченная героем волшебная невеста, скорее объект, чем субъект действия. Появляется фигура Царь-девицы, причем даже более часто, еще в одном типе сказок -551: «Молодильные яблоки: сыновья едут за яблоками (и т.п.) для отца; добывает их младший брат благодаря чудесной помощи; братья завладевают яблоками и бросают младшего брата в яму и т.п.; он спасается, царевна признает в нем отца своих детей»9. Именно героине такого сюжета по большей части посвящен раздел «Женщины-богатырши. Царь-девица» в классической монографии Н.В. Новикова «Образы восточнославянской волшебной сказки»:
«Царь-девица - управительница Девичьим царством. Она же - хранительница эликсира молодости, красоты и здоровья - молодильных <.. > яблок и живой <.. > и мертвой воды. <...> Царь-девица характеризуется в сказках прежде всего как женщина-исполин, обладающая непомерной физической силой. <...> Но Царь-девица не только могучая поляница. Она - вообще необыкновенная женщина, наделенная чудесными свойствами, и невиданная по красоте. <.. > Не устояв перед красотой безмятежно спящей Царь-девицы, Иван-царевич лишает ее целомудрия <...>. Пробудившись, разгневанная Царь-девица преследует соблазнителя, но тот скрывается <,.> она ни с чем возвращается обратно, пригрозив, однако, что все равно его разыщет. И, действительно, родив от него <...> сынов, Царь-девица выполняет обещанное. <.. > она предстает как вполне сформировавшаяся богатырка, связанная происхождением и родственными отношениями не с одушевленными и неодушевленными предметами реального мира, как обычно герои, а с фантастическими существами (Морским царем, Змеем, Бабой-Ягой и пр.)»10.
В сказках этого типа царская и воинственная сущность героини проявлена чуть более отчетливо - см., например, № 173 (№ 104с по дореволюционным изданиям) или № 175 (№ 104е, лубочного происхождения) из сборника Афанасьева. Но эта Царь-девица все-таки очень далека от персонажа цветаевской поэмы, хотя некоторые черты сходства имеют место: великанский рост и обладание чудесными свойствами (Царь-Девица, несомненно, оказывает «живительное» влияние на Царевича), а также родство не с людьми, а с духами стихий. В то же время черты традиционной «волшебной жены» вообще проявлены в героине сказок типа 551 отчетливее, нежели именно богатырши: здесь и необыкновенная красота, и преимущественно претерпевающая роль с удачным покушением героя на обладание ею без ее согласия и ведома. Если героиня и преследует потом героя, то с целью восстановления специфически женской чести посредством брака, те. соотношение мужского/женского в личности персонажа не становится здесь предметом рефлексии. В общем, если сюжетная основа и была почерпнута Цветаевой из сказок типа 400*В, а некоторые особенности характерологии сближают героиню поэмы с женским персонажем сказок типа 551, то в основном характер героини, по нашему мнению, восходит к былинам, где «героецентричность» не так сильна и где порой женский персонаж является равным по значимости мужскому или даже совсем выходит на первый план.
Подобная мысль уже высказывалась А. Крот:
«Народные сказки о Царь-девице, записанные Афанасьевым, <.. > отходят от былинного образа Царь-девицы [так! Хотя именно Царь-девица в былинах вообще не появляется; в фольклоре это сугубо сказочный персонаж. - В. З.-ОД, поскольку они все описывают красивую, нежную девушку, а не женщину-воина. <.. > Среди других русских поэтов, привлеченных этим мотивом, наиболее примечателен Державин, написавший свою “Царь-девицу” в 1812 г. Героиня державинского произведения приближается к былинному образу и описана как сверхженщина огромной красоты и физической и интеллектуальной мощи, более склонная к верховой езде, охоте и бою, нежели к любовной игре. Цветаевская сказка в своем описании Царь-Девицы повторяет державинскую версию гораздо в большей степени, нежели афанасьевскую, и ближе к образу, рожденному былинами»11.
Мы, однако, не можем согласиться с мыслью о том, что цветаевская Царь-Девица близка державинской12 и, тем более, державинская - былинной. Державинский текст, во-первых, теснейшим образом связан с лубочными сказками13, в частности, о Бове-королевиче, откуда заимствованы образы Маркобруна и Полканов, а вовсе не с былинами. Характерно, что Цветаева, хотя и опирается больше на сказку № 233, чье лубочное происхождение несомненно и отмечалось в комментариях Л.Г. Барагом и Н.В. Новиковым, как бы заново фольклоризует ее, отказываясь практически от всех лубочных элементов (их можно усмотреть разве лишь в описании смотра полков Царь-Девицы). Во-вторых, «Царь-девица» Державина внутренне иронична, сознает свой игровой характер, вообще «игрушечность» лубка, что, в общем, чуждо гораздо более серьезной цветаевской поэме. В-третьих, сюжет державинской «Царь-девицы» примыкает к типу 551, а вовсе не к типу 400 (которым воспользовалась Цветаева). Наконец, 112
героиня как воин не показана, это галантная охотница во вкусе рококо, за которой «тащится» «полк нимф»; царством она управляет «лежа», обидчика ее Маркобруна побеждают «мужи славы», а сама она лишь вскрикивает «ах!». Единственное, в чем с натяжкой можно увидеть параллель к цветаевской поэме (по нашему мнению - не к ней, а к сказке-источнику), - это превращение побежденного Маркобруна в музыканта и, в результате, смягчение сердца Царь-девицы, получение им прощения («Но как он царя-девицы / Нежный нрав довольно знал, / Стал пастух - и глас цевницы / Часто ей своей внушал»14).
Возвращаясь к мысли о былинном происхождении образа цветаевской героини, отметим, что былины знают как наиболее распространенный вариант сюжета о воительнице, когда героиня-поляница представляется равной мужскому персонажу и происходит испытание силы (основной мотив - поединок, развязка обычно трагическая и сопровождается гибелью либо одного, либо обоих персонажей - см., например, былину о Дунае и Настасье королевичне), так и более редкий, о котором речь идет выше. Это в первую очередь былинный сюжет о женитьбе Добрыни Никитича на богатырке-великанше Настасье Никуличне. Ее превосходство над славным богатырем таково, что она сначала не замечает его ударов палицей (традиционный мотив), а потом, разглядев таки Добрыню, кладет его в свой карман вместе с конем. Решение о браке принимается именно ею:
Говорит Настасья дочь Никулична: - Ежели богатырь да он старый, Я богатырю да голову срублю. Ежели богатырь да он младыи, Я богатыря да во полон возьму.
Ежели богатырь мне в любовь придёт, Я теперь ведь за богатыря за муж пойду. Вынимает-то богатыря да из карманчика, Тут ёй богатырь да понравился15.
Хотя здесь нет буквальных сюжетных совпадений с цветаевской поэмой, имеются характерологические: Настасья Никулична - могучая воительница, показанная в действии (чего сказки с героинями-воительницами обычно избегают); отмечается ее «буйна голова» (стандартная фольклорная формула, которая, однако, соотносится с именованием «Царь-Буря» у Цветаевой и вообще со «стихийностью» героини). Как и Царь-Девица, она обладательница вещего коня. Настасья Никулична наделена необыкновенной мощью и великанской статью (ср. отмечавшийся выше гигантизм цветаевской героини), что заставляет относить ее к «чужеродным» героям русского богатырского эпоса, представителям иного мира (ср. с принадлежностью Царь-Девицы иному - правда, небесному - миру). Эти препятствия не мешают ей желать сочетаться браком с героем, который вроде бы внешне и по размеру не соответствует ей (ср. постоянные сравнения Царевича с младенцем в речи Царь-Девицы, особенно: «Спать тебе не помешаю, / Алмаз, яхонт мой! / Оттого что я большая, / А ты - махонь- кой!», 3, 211), но в каком-то смысле является ей ровней (ср. речь коня: «- Молода Настасья, дочь Никулична! / Что конь у богатыря да сопротив меня, / Сила у богатыря да сопротив тебя: / Не могу везти я больше вас с богатырем!»16). Любовная инициатива принадлежит ей, а не герою. Также весьма любопытно, что герой - Добрыня - тоже славится игрой на гуслях, о чем свидетельствует сюжет «Добрыня и Алеша» (типа «Муж на свадьбе своей жены»), где отсутствовавший 12 лет Добрыня появляется на пиру у князя Владимира в обличье гусляра.
Цветаева, по всей видимости, была знакома с былиной о женитьбе До-брыни, о чем косвенно свидетельствует знание ею былины о Добрыне и Маринке, отразившейся в поэме «Переулочки» (1923 г), которая написана сразу после «Царь-Девицы»: обычно в былинах история о женитьбе богатыря рассказывается не самостоятельно, а в контаминации с другими сюжетами (например, в № 5 сборника Гильфердинга встречаем контаминацию сюжетов «Добрыня и Маринка» и «Женитьба Добрыни»), так что целое тяготеет к «единому произведению, заключающему всю его биографию»17.
Былины упоминаются Цветаевой неоднократно. См., например, запись в «Сводных тетрадях» (1931 г): «Я. - Уезжает (замуж!) Е.А. И<звольская>. Разговор - какие книги взять. <.. > Я бы, кажется, Temps perdu Пруста (все икс томов!), все 6 (или 8) томов Казановы - лучше восемь! - Русские сказки и былины - и Гомера (немецкого).. ,»18. Вопрос, однако, в степени этого знакомства. Нет свидетельств того, что Цветаева имела в своем распоряжении издания экспедиционных записей былин (Рыбникова, Григорьева, Гильфердинга, Ончукова и т.д.); скорее речь идет о популярных сборниках и хрестоматиях. В «Сводных тетрадях» упоминаются «Русские сказки и былины» и просто «Сказки и былины»: вместе тексты этих совершенно различных жанров публиковались, как правило, именно в хрестоматиях, часто предназначенных для учащихся. Отчитывая Г. Адамовича в статье «Цветник» (1926 г), М. Цветаева приводит уничижительные строки из его эссе «Victoria Regia (О лже-народном искусстве)»: «‘Той еси”, “за лугами за зелеными” <...> совершенно невыносимо <...> после всей трескучей фальши подложно-народного искусства (кстати сказать и сейчас еще процветающего: Цветаева, например, посвящает свою сказку Пастернаку в благодарность “за игру за твою за нежную”)» - и поправляет критика: «Во-первых:“3а игру за твою великую, За утехи твои за нежные” Во-вторых: эти строки не мои, а взяты мною из былины “Садко и Морской царь”: благодарность Морского царя - Садку. (См. любую хрестоматию.)» (5, 304). Разумеется, Цветаева хочет подчеркнуть здесь уровень неосведомленности Адамовича, однако все-таки ссылку именно на хрестоматию следует иметь в виду, как и тот факт, что вообще-то Адамович приводит существующий в былинах вариант (точнее: «- За твои за утехи за великия, / - За твою-то игру нежную...»: Рыбников № 134, Гильфердинг № 70). Но Цветаева об этом не знает - как, кстати, и о том, что эта словесная формула, согласно исследованиям А.С. Фаминцына, Вс. Миллера и Ф.И. Буслаева, прилагается иногда и к другому гусляру - как раз к Добрыне Никитичу 114
(строки «За твою игру за великую, / За утехи твои за нежныя, / Без ме-рушки пей зелено вино, / Без расчету получай золоту казну» - слова князя Владимира переодетому гусляром Добрыне19).
Про былиный сюжет о женитьбе Добрыни на могучей полянице могла напомнить Цветаевой «Вторая книга отражений» (1909 г.) И.Ф. Анненского:
«Среди этих скучных степных сказок <...> есть одна, в которой изображается удалая поляница. Богатырь ошарашивает ее раз по разу своей шалыгою подорожной, а красавице чудится, что это комарики ее покусывают. И вот, чтобы прекратить это надоевшее ей щекотанье, Настасья Микулична опускает богатыря и с его конем в свой глубокий карман. Приехав на отдых, она, впрочем, уступила женскому любопытству и, найдя богатыря по своему вкусу, предложила ему тут же сотворить с нею любовь. Конец был печален, но не в конце дело. Богатырь, посаженный в женский карман да еще вместе с лошадью, вот настоящий символ тургеневского отношения к красоте»20.
О том, что Цветаева могла воспринять былину о Добрыне через посредство Анненского, свидетельствует и аберрация памяти поэта: «Конец был печален...». Но в былинах Добрыня благополучно женится на Настасье, и та остается ему верной женой даже в долгой разлуке; между тем, в «Царь-Девице» конец, действительно, печален.
Крайне интересна и другая былинная параллель, хотя в данном случае речь не идет о столь широко известном тексте, так что сложно утверждать, что мы имеем дело с заимствованием, а не совпадением. К имени Настасьи Никуличны прикреплена еще былина (точнее, отрывок былины) № 113 в сборнике Гильфердинга и № 79 в сборнике Рыбникова:
Было-то у молодца похожено, Было-то у доброго поезждано -На том-то на Соколе на батюшки На большоем на корабли -Нос, корма по-звериному, Бока-ты были по-змеиному; На том-то на Соколи на батюшки На большоем на корабли Снасти-канаты были шелковые, Паруса были полотняные...
На том-то на Соколе на батюшке
На большоем на корабли
Ездил удалой-доброй молодец,
Поленица удалая, -
Ж...ка крутенка по-женскому,
Походочка частенка по-женскому, Поговорочка гладенка по-женскому: Быть ли не быть - Настасьи Микуличной!21
Отрывок (парный к отрывку «Микула [Селянинович]»), таким образом, описывает, с одной стороны, чудесный корабль, а с другой - ходящего на нем молодца, который оказывается «удалой поленицей» Настасьей Ми-куличной. Изображение фантастически украшенного корабля для былин довольно типично (см., например, сюжеты «Илья Муромец с богатырями на Соколе-корабле», «Соловей Будимирович»), но не в сочетании с образом воительницы.
Так или иначе, учитывая проанализированные отсылки и реминисценции, следует констатировать полигенетичность образов и сюжета поэмы и отметить, что направление его трансформации по сравнению с основным источником - сказками из сборника Афанасьева - указывается характером центрального персонажа. Именно сущность Царь-Девицы как девы-воительницы (и динамика ее отношений с более слабым, но сужденным ей свыше как вторая часть «разрозненной пары» персонажем) определяет развитие сюжета. Сам же этот образ и связанный с ним сложный комплекс представлений, с одной стороны, высоко характерны для творчества Цветаевой в целом, а с другой, приобретают в поэме особые, только здесь проявленные черты. Благодаря разветвленной системе мотивов и ассоциаций заглавная героиня объединяет две трактовки Царь-Девицы, представленные в лирике Цветаевой: это и дева-стихия, удалая богатырка, напоминающая о героине былин, и сакральное существо, преодолевшее все земное, святой воин. Поэма являет собой апогей первой из двух названных тенденций в творчестве Цветаевой: впоследствии воительницы все в большей степени предстают у нее провидицами и спасительницами, наделенными божественной миссией, которая понимается как отказ от всего мирского ради поэтического призвания. По-видимому фольклорные источники поэмы-сказки во многом определили тяготение героини к полюсу стихийного богатырства и разбойной лихости, но при этом - своеобразной чистоты и светлости, «безгреховное™», как безгреховна природная стихия. Эта же ориентированность на фольклор, вероятно, обусловила и меньшую, по сравнению с произведениями второй из указанных линий, автотема-тичность: тема искусства здесь появляется, но не становится основной. При этом ряд мотивов поэмы - трагического разминовения «равных» и неузнавания друг друга любящими; любви как «страстного материнства»; презрения к жизни плоти - будут разрабатываться Цветаевой и в других ее произведениях, где появляется фигура воительницы.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-18-02709) и в ИМЛИ РАН.
Список литературы Образ воительницы в поэме "Царь-девица": к вопросу о характерологии М. Цветаевой (статья вторая)
- Зусева-Озкан В.Б. Образ воительницы в поэме «Царь-Девица»: к вопросу о характеро-логии М.
- Цветаевой. (Статья первая)//Новый филологический вестник. 2016. № 4 (39). С. 71-86.
- Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. М., 1994-1997.
- Топорков А.Л. Заговоры в русской рукописной традиции XV-XIX вв.: история, символика, поэтика. М., 2005. С. 210.
- Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. М., 1957. Т. 2. С. 109.
- Зусева-Озкан В.Б. Дева-воительница в литературе русского модернизма. Бра-даманта у Л. Ариосто и
- Браманта у М. Кузмина//Русская литература. 2016. № 1. С. 125.
- Новик Е.С. Система персонажей русской волшебной сказки. URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/novik8.htm (дата обращения 08.08.2016).
- Андреев Н.П. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Л., 1929. С. 32.
- Новиков Н.В. Образы восточнославянской волшебной сказки. Л., 1974. С. 72-74.
- Kroth A.M. Androgyny as an Examplary Feature of Marina Tsvetaeva's Dichoto-mous Poetic Vision//Slavic Review. 1979. Vol. 38. № 4. P. 572-573.
- Полякова С.В. К вопросу об источниках поэмы Цветаевой «Царь-Девица»//Russica-81: литературный сборник. New York, 1982. C. 228.
- Корепова К.Е. Русская лубочная сказка. Нижний Новгород, 1999.
- Женитьба Добрыни//Добрыня Никитич и Алеша Попович. М., 1974. С. 171.
- Добрыня Никитич и Алеша Попович. М., 1974. С. 395-396.
- Цветаева М. Неизданное. М., 1997. С. 430.
- Фаминцын А.С. Божества древних славян. М., 2014. С. 490; Миллер Вс. Очерки русской народной словесности. М., 2015. С. 105; Буслаев Ф.И. Русский богатырский эпос//Русский вестник. 1862. Т. 41. № 10. С. 557.
- Анненский И.Ф. Символы красоты у русских писателей//Анненский И.Ф. Книги отражений. М., 1979. С. 133-134.
- Песни собранные П.Н. Рыбниковым: в 3 т. Изд. 2-е. М., 1909. Т. 1. С. 424.