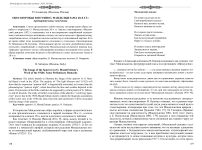Образ воробья в поэзии О. Мандельштама 20-х гг.: предварительные замечания
Автор: Сальваторе Роберта
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (44), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой попытку интерпретации образа во-робья в творчестве О. Мандельштама 20-х гг. Анализ стихотворения «Московский дождик» (1922 г.) показывает, что в нем выражение «воробьиный холодок» имеет лингвистическую мотивацию, потому что эпитет восходит к фразеологизму «воробьиная ночь», который во многом соответствует описываемой картине. В то же время образ птиц поддерживается отсылками к отдельным стихотворениям Н. Некрасова и М. Кузмина. Исследование других случаев употребления прилагательного «воробьиный» в творчестве Мандельштама изучаемого периода подтверждает склонность поэта к обыгрыванию языковых ассоциаций этого слова. В образе воробья сочетание бедности и беззаботности станет актуальным только в 30-х гг.
Образ воробья, о. мандельштам, поэтика, н. некрасов
Короткий адрес: https://sciup.org/14914676
IDR: 14914676
Текст научной статьи Образ воробья в поэзии О. Мандельштама 20-х гг.: предварительные замечания
В творчестве Мандельштама образ воробья, в форме существительного или прилагательного, появляется в первой половине 20-х гг, а потом возвращается в начале 30-х, всегда в контексте московского пейзажа.
Как отмечает Л. Видгоф [Видгоф 2012, 9], связь между птицей и городом впервые обнаруживается в стихотворении «Московской дождик». Этот текст появился на страницах журнала «Сегодня» (1922/1: 2) без заглавия и с начальной строфой, которую впоследствии Мандельштам изъял из окончательной версии, опубликованной через три года в альманахе «Ковш» (1925/1: 35).
Московский дождик
Он подает куда как скупо Свой воробьиный холодок -Немного нам, немного купам, Немного вишням на лоток.
И в темноте растет кипенье -Чаинок легкая возня, -Как бы воздушный муравейник Пирует в темных зеленях.
И свежих капель виноградник Зашевелился в мураве, -Как будто холода рассадник Открылся в лапчатой Москве!
В книге «Алмазный мой венец» В. Катаев вспоминает, как сочинил этот текст Мандельштам, фигурирующий здесь под прозвищем «Щелкунчик»:
«.. .комнатка почти без мебели <.. .>, а за единственным окошком первого этажа флигелька - густая зелень сада перед ампирным московским домом с колоннами по фасаду.
Ветер качал купы разросшихся, давно уже не стриженных деревьев, кажется лип, а может быть, тополей, и мне чудилось, что они тоже колобродят, обреченные на сруб.
Глядя в окно на эту живую, шевелящуюся под дождем листву, щелкунчик однажды сочинил дивное стихотворение, тут же, при мне записанное на клочке бумаги, названное совсем по-детски мило “Московский дождик”» [Катаев 1979, 79].
Мнение писателя разделяют и те немногие исследователи, интересовавшиеся этим стихотворением. И. Бушман отмечает, что в раннем творчестве поэта это единственный случай, когда дождь является темой целого стихотворения, подчеркивая при этом, что для Мандельштама природа -всегда источник спокойствия [Бушман 1964, 27]. М. Гаспаров обращает свое внимание на идилличность [Мандельштам 2001, 644] этого текста, а Е. Невзглядова [Невзглядова 2003, 179] находит в нем отражение той веселости, которую современники часто упоминали как главную черту характера Мандельштама.
Однако, помимо этих кратких замечаний, «Московский дождик» оставался вне поля исследовательского внимания, что не вызывает удивления: по сравнению с большинством мандельштамовских стихотворений восприятие текста не затруднено, т.к. в нем преобладает визуальный элемент и не проявляется то новое понимание истории и культуры, которое писатель разрабатывает после революции 1917 г. Тем не менее, и в этом произ- ведении можно обнаружить темные места. Одно из них связано с образом воробья.
В первой строфе три слова употреблены в переносном смысле. Первые два слова, «подает» и «скупо», легко интерпретируются как черты, относящиеся к олицетворению дождя, упомянутого в заглавии стихотворения. Они описывают первую прохладу, которую дарит воздуху начало грозы. Облегчение, привнесенное дождем, проявляется и в ритмике стихотворения, в котором по мере того, как текст развертывается, чередование ударных и безударных слогов внутри каждой строфы становится все более регулярным. Эпитет «воробьиный» является неожиданным. Его комментирует только Л. Видгоф, по мнению которого «воробей - птица бойкая, легкая, непоседливая, дерзкая, веселая. Воробей - настоящий горожанин, скромный и вольный житель улиц и площадей. Его существование анонимно, он беден, но беззаботен. В Москве, в этом огромном многоцветном <.. .> городе-мире, раскинувшемся на холмах <.. .>, на Воробьевых горах, можно было почувствовать себя таким городским воробьем, незаметной, “богемной”, свободной птицей, которая живет “озоруючи”, как поэт написал позднее о любимом Вийоне» [Видгоф 2012, 9].
Как нам кажется, замечания Видгофа о чертах образа воробья в творчестве Мандельштама можно отнести к его поздним произведениям, а это первое появление птицы в стихах поэта имеет скорее лингвистическую мотивацию. Прилагательное «воробьиное» вызывает в памяти выражение «воробьиная ночь». Этот фразеологизм, распространенный среди восточных славян [Агапкина, Топорков 1989, 230-253], описывает ночь с духотой, ветром, дождем или зарницами и дальними громами, которая по-разному соотнесена с календарем в разных региональных традициях. Это выражение, распространенное в южной России и в большей части Украины, в южнорусских диалектах означает также короткие летние ночи перед летним солнцестоянием; в таком двойном значении фразеологизм вошел в русский литературный язык: в словаре Ожегова воробьиная ночь определяется как «короткая летняя ночь, а также ночь с непрерывной грозой и зарницами». На основе его полисемантичное™ лежит с одной стороны хронологическая близость этого явления с самой короткой ночью года, с другой же - семема «маленький, мелкий», которая во многих русских выражениях ассоциируется с воробьем: в вышеупомянутом словаре для передачи значения «очень маленький» фиксируются сочетания «с воробьиный нос» или «короче воробьиного носа»; в аналогичном смысле употребляются также выражения «воробьиный шаг», «с воробьиный скок» [Мечковская 2005, 112-113].
Связь фразеологизма «воробьиная ночь» с эпитетом «воробьиный» у Мандельштама проявляется в том, что в тексте описывается именно начало дождя в жаркий летний вечер, наблюдаемое из какого-то окна: в дальнейшем изображается темнота (в темноте; в темных зеленях), ветер (растет кипенье; чаинок легкая возня; зашевелился), прохлада от перемены погоды (холодок; холода рассадник). «Воробьиный холодок» - синтети- ческий образ, который, со ссылкой на языковую память читателя, вбирает в себя конкретные детали описываемой здесь и дальше картины. Первая строфа не имеет никакого отношения непосредственно к птице или к тем качествам, которые можно ей приписать, а обыгрывает два значения прилагательного «воробьиный» во фразеологизмах, а именно описание специфического атмосферного явления и отсылка к чему-то маленькому, короткому Это последнее значение хорошо сочетается с общим содержанием первого четверостишия, где преобладают слова, передающие идею неполноты, недостаточности («куда как скупо», уменьшительное «холодок», дважды повторяемое «немного»).
Во второй строфе можно бы усмотреть описание настоящих птиц в стихах «И в темноте растет кипенье / Чаинок легкая возня»: Э. Гурвич вспоминает, что однажды летом, глядя на стаю кружащихся в воздухе птиц, Мандельштам сказал: «Смотрите, птички кипят» [Гурвич 1991, 31]. Эпизод относится к пребыванию поэта в Феодосии, к лету 1920 г. [Гурвич 1991, 31]; [Лекманов 2016, 131] и, значит, произошел до написания этого стихотворения; при этом возможно, что и процитированная выше фраза, и это произведение обнаруживают следы знакомства Мандельштама с циклом «Фузий на блюдечке» (1917) М. Кузмина [Barnstead 1986, 75], [Фрей-дин 1990, 28-31], [Успенский 2012, 131]:
Сквозь чайный пар я вижу гору Фузий, На желтом небе золотой вулкан. Как блюдечко природу странно узит! Но новый трепет мелкой рябью дан. Как облаков продольных паутинки Пронзает солнце с муравьиный глаз, А птицы-рыбы, черные чаинки, Чертят лазури зыблемый топаз!
Появление чаинок также могло бы быть связано с начальной строфой «Московского дождика», которую Мандельштам исключил из окончательной версии 1925 г:
Бульварной Пропилеи шорох -Лети, зеленая лапта!
Во рту булавок свежий ворох, Дробями дождь залепетал.
В стихотворении для детей «Кухня», написанном Мандельштамом в том же 1925 г, обнаруживается образ, объясняющий связь между чаинками и метафорой «булавок дождя»: «Черный чай в сухой жестянке / Словно гвоздики звенит: / <...> Мы, чаинки-шелестинки, / Словно гвоздики звеним». Вероятно, в начале первой версии «Московского дождика» поэт варьировал образ дождя в «Деревенских новостях» Н. Некрасова:

Как-то шумлив и легок Дождь начинается летний, И по дороге моей, Светлые, словно из стали, Тысячи мелких гвоздей Шляпками вниз поскакали -Скучная пыль улеглась...
- превратив гвозди в булавки. Вообще общность описанной ситуации позволяет увидеть в тексте Мандельштама отсылку к двум стихотворениям Некрасова - к вышеупомянутым «Деревенским новостям» с образом гвоздей дождя, и к стихотворению «Перед дождем» (1846):
Заунывный ветер гонит Стаю туч на край небес. Ель надломленная стонет, Глухо шепчет темный лес.
На ручей, рябой и пестрый, За листком летит листок, И струей сухой и острой Набегает холодок.
Полумрак на все ложится;
Налетев со всех сторон, С криком в воздухе кружится Стая галок и ворон.
Здесь легко обнаружить много деталей мандельштамовского текста: «холодок», шум ветра, колышущего деревья (который у Мандельштама заметнее проявлялся в убранной строфе), темноту, встревоженное кружение птиц (его, как уже сказано, можно усмотреть в возне чаинок). Итак, с одной стороны, текст «Деревенских новостей» подсказывает метафору дождя булавок, ударяющих по твердой поверхности; с другой же, поэт уподобляет падающие булавки чаинкам в жестянке, а сами чаинки (скорее всего под влиянием Кузмина) - птицам: их полет при первых признаках ненастья, по всей вероятности, навеян стихотворением «Перед дождем». В окончательном тексте устранение первого четверостишия значительно снижает звуковой компонент в пользу других форм восприятия. Стоит подчеркнуть, что в тексте нет элементов, подкрепляющих отождествление чаинок с птицами или с какой-либо другой деталью пейзажа; вечерняя темнота и пристальное внимание к растительному миру (купы; темные зелени; мурава; лапчатая Москва) могут подсказывать читателю параллель между возней чаинок и описанием колышимых ветром деревьев.

Впервые появившийся в этом стихотворении в форме прилагательного, образ воробья сначала обладает чисто языковой сущностью, потому что отсылает не к птице, или к приписываемым ей признакам, а к фразеологизмам, где это прилагательное употребляется; сам эпитет «воробьиный» является здесь лексически искаженным плодом народной этимологии [Агапкина, Топорков 1989, 245].
Это стихотворение соотносится с очерком «Холодное лето», опубликованным почти через год, в июле 1923 г.:
«Когда <...> я выхожу на площадь, еще слепой, глотая солнечный свет, мне ударяет в глаза величавая явь Революции <.. > Маленькие продавщицы духов стоят на Петровке, против Мюр-Мерилиза, - прижавшись к стенке, целым выводком, лоток к лотку. Этот маленький отряд продавщиц - только стайка. Воробьиная, курносая армия московских девушек: милых трудящихся машинисток, цветочниц, голоножек - живущих крохами и расцветающих летом <...>
В ливень они снимают башмачки и бегут через желтые ручьи, по красноватой глине размытых бульваров, прижимая к груди драгоценные туфельки-лодочки - без них пропасть: холодное лето. Словно мешок со льдом, который никак не может растаять, спрятан в густой зелени Нескучного и оттуда ползет холодок по всей лапчатой Москве...
Вспоминаю ямб Барбье: “Когда тяжелый зной прожег большие камни”. В дни, когда рождалась свобода - “эта грубая девка, бастильская касатка”, - Париж бесновался от жары - но жить нам в Москве, сероглазой и курносой, с воробьиным холодком в июле...»
Сопоставление прозы и поэзии показывает, как Мандельштам по-новому использует образы, уже закрепленные за определенным местом и обстоятельством, изменив их содержание. В этом отрывке снова описывается летняя Москва во время дождя, и можно обнаружить много лексических перекличек со стихотворением: воробьиный холодок, зелень, лапчатая Москва, лоток. Сразу выявляются и отличия: перед нами не темнота дождливого вечера, а дневной пейзаж, освещенный слепящим летним солнцем. Образ воробья описывает не атмосферное явление, а продавщиц, сопоставляемых с птичками: «выводок», «стайка», которая живет «кро хами», «курносая армия»; в этом последнем выражении можно увидеть отсылку к фразеологизму «с воробьиный нос», означающему «очень маленький».
В приведенном отрывке прилагательным «воробьиный» сначала обозначаются продавщицы, прижимающиеся к стене, как озябшие птички, а потом описывается Москва. Черты девушек переходят к городу, который олицетворяется: Москва «сероглазая» и «курносая». Персонификация советской столицы сравнивается с Парижем времен французской революции, по отношению к которому употребляется другая орнитологическая метафора: Париж - это «бастильская касатка», и в этом выражении слово касатка, с одной стороны, указывает на птицу, с другой же - это ласка-

тельное обращение к девушке. Итак, «воробьиный холодок» возвращается, но в новом контексте, подчеркивающем метафорическое сравнение воробьи / девушки - воробей / касатка - Москва / Париж.
Сближение этих двух городов в связи с образом воробья повторяется и в стихотворении «Язык булыжника мне голубя понятнее» (1923), где со стайками воробьев сравниваются дети: «Здесь толпы детские - событий попрошайки, / Парижских воробьев испуганные стайки, / Клевали наскоро крупу свинцовых крох - / Фригийской бабушкой рассыпанный горох»; «крохи» обретают здесь совсем новый смысл, отсылая к Французской революции [Сегал 1998, 730].
Прилагательное «воробьиный» появляется также в очерке «Поэт и культура» (1921) по отношению к греческой мифологии, а воробьи упоминаются еще в «Египетской марке» (1928) при описании Барбизонской школы, но из этих текстов «Холодное лето» хронологически, тематически и образно оказывается ближе всех к «Московскому дождику».
Наконец, прилагательное «воробьиный» будет использовано Мандельштамом по отношению к ветру в переводе стихотворения Макса Бартеля Frilhling, опубликованном в сборнике стихов немецкого поэта в 1925 г. [Бассель 2015 а, 124-125]. Ср.:
Friihling [Barthel 1920, 12]:
Die Arbeiterinnen, die Seelen und Hande zerqualt, Stehen verklart in der Sonne, Giite flammt um ihre Gesichter.
Sie lachen und sind verwirrt und scheu
Wie junge Madchen, Drift ferner Jugend Kommt wieder und wieder.
Весна [Мандельштам 1993, II, 202]:
И замужние работницы
С расщепленной душой, с шершавой кожей Желтого солнца пьют мед.
В добрых морщинках лицо.
Смеются и целомудренно робеют -Словно девушки; им ветерок воробьиный Треплет пряди жестких волос.
Было отмечено [Бассель 2015 а, 119-138], [Бассель 2015 Ь, 47-51], что при переводе стихов Бартеля Мандельштам часто обогащает лексику и образность подлинника, усложняя семантику, а иногда добавляя элементы своего поэтического языка. И в самом деле, в русской версии этого отрывка можно заметить, с одной стороны, большую предметность, с другой же - значительное изменение заключительной части. Русский поэт придает больше конкретности образам текста, вставляя в него прилагательные, описывающие зрительное и осязательное восприятие предметов: трудность жизни опредмечивается в растрескавшихся руках и в их метафорической параллели - расщепленной душе; свет весеннего дня передается желтым светом солнца, а его воздействие - метафорой выпивания меда. В конце отрывка тема молодости (Duft ferner Jugend) сохраняется только в противопоставлении замужние работницы / словно девушки, которого нет у Бартеля, где ничего не говорится о замужестве работниц; весенняя жизнерадостность, которая как бы возвращает им молодость, передается новым, конкретным образом - легким дуновением ветра, треплющего жесткие волосы женщин. Эпитет воробьиный, внесенный Мандельштамом в текст, призван передать и идею крохотное™, которую он выражает во многих фразеологизмах, и робкую жизнерадостность работниц на солнце, являясь очередной вариацией сравнения девушек с птичками.
Рассматривая в хронологическом порядке обращение Мандельштама к образу воробья в 20-е гг, мы видели, что поэт только дважды использует его в прямом смысле в рамках метафорического сравнения; чаще всего он обыгрывает языковые ассоциации прилагательного «воробьиный». В «Московском дождике» этот эпитет, являющийся неотделимой частью фразеологического сращения «воробьиная ночь», соотнесен с другим существительным - холодком, который метонимически связан с ночью. На это соотношение наслаивается отсылка к тем фразеологизмам, где «воробьиный» указывает на незначительность размеров, поскольку лексический контекст стихотворения выдвигает на первый план именно это значение.
В «Московском лете» сравнение молодых продавщиц с озябшими воробьями дается в рамках персонификации современной Москвы, противопоставленной Парижу времен французской революции, что и приводит к новой трактовке выражения: потеряв свою метеорологическую точность, оно обозначает просто легкий холодок, от которого вздрагивают птицы; его контраст со зноем революционного Парижа подчеркивает разницу между этими историческими периодами. Наконец, в переводе Бартеля снова появляется сравнение птиц с женщинами, которых весна будто превращает в девушек, а их робость переносится на «воробьиный» ветер.
В общем, в творчестве Мандельштама первой половины 20-х гг. вряд ли можно усмотреть в образе воробья то сочетание бедности и беззаботности, которое Видгоф приписывает этой птице и которое, скорее всего, верно для стихов 30-х гг. Вместе с тем, анализ того, как Мандельштам перестраивает мотивы и образы русской поэтической традиции, интересен не только для освещения метафорической ткани его текстов, но и потому что выявляет зачатки того развития поэтического мышления, которое характеризует позднее творчество поэта. В «Разговоре о Данте» (1933) итальянский поэт назван «стратегом превращений и скрещиваний», и эта формула хорошо определяет также смыслопорождающий механизм у Мандельштама. Как нам кажется, «Московский дождик» - наглядный пример того, как писатель скрещивает голоса своих предшественников и превращает их в новые образы: некрасовский дождь гвоздей становится дождем булавок, булавки превращаются в чаинки, чаинки - в птиц. Разумеется, это не значит, что при написании текста поэт шел именно этим логическим путем, но знаменательно, что уже в начале 20-х гг. Мандельштам развертывает изначальное образное ядро в ряд тропов, по-разному с ним связанных, в бесконечном творческом процессе внутри языка.
Как мы видели, в двадцатые годы образ воробья у Мандельштама связан с одной стороны со столицей, с другой же - с революцией. Помимо «Московского дождика» он появляется в ряде произведений 1923 г. В очерке «Холодное лето» вид и атмосфера советской столицы явно отсылают к Парижу времен французской революции; из этого текста описание молодых девушек, прижимающихся к стене, как стая воробушков, в измененном виде переносится Мандельштамом в перевод стихотворения певца рабочего восстания М. Бартеля «Весна». Наконец, образ птички возникает в стихотворении «Язык булыжника мне голубя понятней», где изображается охваченный революцией Париж.
К этому образу поэт возвращается в начале тридцатых годов, когда после пятилетнего молчания он начинает опять писать стихи, по-новому трактуя темы и образ предыдущего творческого периода. В это время общая птичья тема получает новый поворот: возникает образ домов-голубятен как символа «родного дома, семейственности, возвращения» [Мед-видь 2006, 149-155], [Медвидь 2007]. В этом контексте тема революции теряет свою актуальность, но образ воробья остается связанным с московской жизнью. И в самом деле, он снова появляется в трех стихотворениях 1931 г, где описывается жизнь советской столицы: «Нет, не спрятаться мне от великой муры», «Еще далеко мне до патриарха» и «Полночь в Москве». В первом тексте Мандельштам снова обращается к образу сжимающегося от холода воробья («она то сжимается, как воробей»), чтобы описать изменение московского пейзажа в окне движущегося трамвая: птица воспринимается как характерный элемент городской обстановки, так что одна из ее традиционных черт метонимически передается городу. Во втором тексте птичка воплощает вольность и незаметность жизни в большом городе («Я к воробьям пойду и к репортерам, / Як уличным фотографам пойду»): как лирический герой, воробьи причастны к городской жизни, но не прикреплены к определенному месту, и именно поэтому могут стать его собеседниками. Наконец, в стихотворении «Полночь в Москве...» можно проследить многочисленные параллели с «Московским дождиком». Поэт открыто коррелирует свое первое пребывание в столице в начале двадцатых годов и последующим возвращением туда: «Бывало, я, как помоложе, выйду <...>/ В широкую разлапицу бульваров”». И в самом деле, изображая снова летнюю Москву, он по-новому осмысливает образы десятилетней давности: лапчатую Москву («в <...> разлапицу бульваров»), бульварный шорох («Шумят сады зеленым телеграфом»), эпитет воробьиный и тему пира («за воробьиный хмель»). Эти неочевидные, но много- численные переклички показывают, что изучение внутренних связей текстов, образов и мотивов может внести существенные уточнения в картину единства творчества Мандельштама на идейном и образном уровнях.
Список литературы Образ воробья в поэзии О. Мандельштама 20-х гг.: предварительные замечания
- Агапкина Т.А., Топорков А.Л. Воробьиная (рябиновая) ночь в языке и поверьях восточных славян//Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры/под ред. Н.И. Толстого. М., 1989. C. 230-253.
- Бассель А.В. Кулак и длань. О переводах Осипа Мандельштама из Макса Бартеля//Новый филологический вестник. 2015. № 3 (34). С. 119-138.
- Бассель А.В. О переводах Мандельштама из Макса Бартеля//Вестник Московского государственного университета культуры и искусства. 2015. Вып. 5 (67). С. 47-51.
- Бушман И. Поэтическое искусство Мандельштама. Мюнхен, 1964.
- Видгоф Л. «Но люблю мою курву-Москву». Осип Мандельштам. Поэт и город. М., 2012.
- Гурвич Э. Что помнится//«Сохрани мою речь…» Мандельштамовский сборник. Вып. 1./ред. П. Нерлер, А. Никитаев. М., 1991. С. 38-40.
- Лекманов О. Осип Мандельштам. Ворованный воздух: биография. М., 2016.
- Медвидь М.В. Идея дома в творчестве Осипа Мандельштама: автореф. дис.... к. филол. н. Нижний Новгород, 2007
- Медвидь М.В. Скворечники и голубятники (Птичий дом в творчестве Осипа Мандельштама)//Художественный текст и культура VI. Владимир, 2006. С.149-155.
- Мечковская Н. Градуально-количественные представления в русской фразеологии//Kognition, Sprache und phraseologische/parömiologische Graduierung/Hrsg. H. Jachnow et al. Wiesbaden. 2005. S. 58-153.
- Невзглядова Е. «Прислушайся к мраку»//Новый мир. 2008. № 3. С. 176-
- Сегал Д. Осип Мандельштам. История и поэтика: в 2 т. Т. 2. Jerusalem; Berkeley, 1998.
- Успенский П. «Начинаются мрачные сцены»: поэзия Н.А. Некрасова в «Европейской ночи» В.Ф. Ходасевича//Europa Orientalis. 2012. № 31. С. 129-170.
- Фрейдин Ю.Л. Михаил Кузмин и Осип Мандельштам: влияние и отклики//Михаил Кузмин и русская культура ХХ века/ред. Г.А. Морев. Л., 1990. C. 28-31.
- Barnstead J. Mandel’štam and Kuzmin//Wiener Slawistischer Almanach. 1986. Bd. 18. S. 47-81.