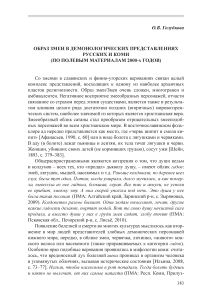Образ змеи в демонологических представлениях русских и коми (по полевым материалам 2000-х годов)
Автор: Голубкова О.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVI, 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521658
IDR: 14521658
Текст статьи Образ змеи в демонологических представлениях русских и коми (по полевым материалам 2000-х годов)
Появление болезней и смерти во многих культурах мыслилось как вторжение в мир людей представителей злобных демонических персонажей нижнего мира, нередко, в облике змеи, червячка, личинки, «живого» конского волоса или насекомого (также приравниваемых к категории гадов). Особенно ярко подобные верования проявились в мифологии коми: считалось, что вредоносный дух болезней шева проникал в организм человека в упомянутых обличиях, вызывая истерические состояния [Ильина, 2008, с. 73–77]. Нельзя, чтобы насекомые в рот попадали. Тогда болеть будешь и никто не вылечит, от них самые напасти (ПМА: Респ. Коми, Прилуз- ский р-н, с. Ношуль, 2008). В соседней деревне к одному деду на покосе заползла в рот то ли змея, то ли ящерица. Прилег отдохнуть и уснул, а она к нему заползла. Он после этого заболел, с ума сошел, временами прям бесился, никак вылечить не могли. Изводила его, изнутри съедала, он исхудал весь, как палка тощий стал. А когда помер, у него она из горла выскочила, то ли змея, то ли ящерица, юркая такая, не разобрать (ПМА: Респ. Коми, Сысольский р-н, с. Визинга, 2008).
В свою очередь, происхождение гадов нередко объясняется перевоплощением душ «нечистых» покойников в смертоносных духов, мстящих живым людям за то, что они живы, или стремящихся «утянуть» за собой души из чувства вечного голода. «Умершим, существовавшим в силу объективизации души как самостоятельные существа, приписывались два сильнейших инстинкта: голод и половой голод. (...) на первом месте стоит голод. Смерть-пожирательница древнее других видов смерти» [Пропп, 1996, с. 251]. Олицетворение в змеином облике смерти или ее предзнаменования характерно для славянских и финно-угорских верований. Например, бросившаяся к человеку змея расценивалась знаком скорой гибели; в таком случае говорили, что за ним «гонится смерть» [Грысык, 1992, с. 57 – 59]. Если в лесу змею встретишь и не убьешь, значит скоро кто-то из родни умрет (ПМА: Омская обл., Тарский р-н, с. Имшегал, 2005). Иногда в появлении большого числа змей видят дурное предзнаменование. Нынче змей много развелось. Это все напасти за грехи наши, кара небесная. В Писании сказано, что были египетские казни, с неба на людей змеи сыпались. Вот и сейчас живем, Бога не помним, а он знамение посылает (ПМА: Псковская обл., Островский р-н, г. Остров, 2010). Старые люди говорят, что много змей бывает - не к добру. Столько змей, говорили, перед войной было (ПМА: Псковская обл., Печорский р-н, д. Малы, 2010). Много змей выползает, значит зимой будет много смертей или голодный год (ПМА: Псковская обл., Псковский р-н, с. Соловьи, 2010).
В то же время, у различных групп славян (в меньшей степени – финно-угров) сохраняются реликты почитания змей как тотемных предков-покровителей. Больше всего этнографических данных зафиксировано у южных славян, однако существует целый корпус фольклорных и изобразительных источников, дающих основания полагать о вере в защитную силу змеи у других славянских народов. Известно немало легенд и быличек о помощи домашних змей домочадцам (предупреждение об опасности, одаривание богатством). Исчезновение домашней змеи (или, наоборот, ее навязчивое появление) считается знаком скорой кончины хозяина или хозяйки дома [Гура, 1997, с. 273 – 299]. Связь образов домашнего духа и змеи прослеживается в способности домового менять шкуру. Согласно русским и белорусским поверьям, поселение ужа в доме считалось счастливым предзнаменованием [Криничная, 1992, с. 18 – 19]. Являясь покровителем дома и хранителем его хозяев, змея предстает одним из олицетворений мифического предка, души умершего.
В связи с тем, что основной функцией мифического предка является забота о продолжении рода [Денисова, 1996, с. 72 – 73], образ Змея наделяется любовными чарами, а связанные с ним фольклорные сюжеты обретают эротическую окраску [Велецкая, 1988, с. 207; Козлова, 1994, с. 62 – 63]. Эротика появляется сравнительно поздно и вносится в уже имеющиеся и создавшиеся ранее религиозные воззрения, в частности в представление о смерти как о похищении, когда божество избирает себе возлюбленную (или возлюбленного) среди людей [Пропп, 1996, с. 251]. По восточнославянским поверьям, Змей ( огненный змей : летающее существо, которое в воздухе выглядит как светящийся шар синего цвета или огненное коромысло) обычно навещает вдов, прилетая к которым, принимает облик покойного мужа. Он мучает свою жертву, сосет ее молоко и кровь, в итоге убивает. Главной причиной домогательств Змея считается нарушение запрета долго оплакивать, голосить по покойному мужу или тосковать по находящемуся в отлучке супругу [Велецкая, 1988, с. 207; Власова, 1998, с. 185, 190–197; Козлова, 1994, с. 62 – 63]. Раньше над деревней летали шары огненные, многие видели. От кладбища летит в деревню, а потом обратно, светится в темноте, летит тихо, то выше, то ниже. Так и летал туда – обратно, а потом перестал, не знаю, куда девался. Раз он с кладбища летит, значит это нечистый дух (ПМА: Новосибирская обл., Карасукский р-н, д. Кукарка, 2004). Змей он может по воздуху летать, они ко вдовам шастают. Вот которая вдова тоскует, к ней приходит, она думает, что муж, а это он, Змей нечистый. Нельзя впускать, утянет на тот свет (ПМА: Псковская обл., Островский р-н, г. Остров, 2010).
Положительное восприятие змеи (образ которой был связан как с солярной, так и с лунной символикой, со способностью воздействовать на плодородие, возрождение и бессмертие) у славянских народов отразилось в изобразительном искусстве: это спираль (змея, свернутая в круг – знак плодородия), амулеты-»змеевики», хоросы с драконами, «змееногие» сирены [Соколов, 1889, с. 339–368; Велецкая, 1988, с. 206–209; Михайлова, 1994, с. 46–47]. В художественной традиции различные пути и варианты трансформации образа змеи приводят от языческих форм «змеевиков» к христианским нагрудным иконкам, где от амулета остается лишь змеевидное окаймление края или помещена надпись «Спаси и сохрани», или же – к дукачам-оберегам с изображением святых на одной стороне и змея – на другой. Устойчивая сохранность «змеевиков» в славяно-балканской традиции в значительной мере определяется поливалентностью символики змеи, существенное место в которой принадлежит знаку регенерации в здоровом, сильном, красивом потомстве. Это связано с изначальным (дохристианским) восприятием змеи как мифического родоначальника, предка-покровителя [Велецкая, 1988, с. 207, 210]. На древнерусских амулетах-»змеевиках» нередко изображалась Богородица в качестве светлых сил, охраняющих владельца амулета от демонов. На обратной стороне такого медальона присутствовала змеевидная композиция, представлявшая собой изображение змееобразного или окруженного змеями демона [Николаева, Чернецов, 1991, с. 1, 31, 63-70].
Имя Богородицы также нередко упоминается в заговорах против змей, а отпугивающим их средством считается богородская трава (чабрец). Иногда заговоры против змей начинаются словами: «Помолимся Господу Богу, Матерь Божью просим…» [Шейн, 1893, с. 549]. Адресация заговоров против змей к Деве Марии и использование ее изображения на соответствующих амулетах, помимо того, что показывает «змееборческие» функции Богоматери (оберегающей от всяких демонов), также обнаруживает сопричастность ее культа (в народно-христианском толковании) и образа змеи. В текстах заговоров Богородица предстает хозяйкой, повелевающей «ползающими гадами». Их образы объединяют мотивы, связанные с плодородием и апотропейной ролью, присущие светлому божеству.
Таким образом, в устнопоэтической традиции образ Змея (дракона) претерпел самые различные переосмысления и напластования, деформируясь из космического божества, мифического предка в различные эпические и сказочные персонажи, преломленные через свойственную той или иной этнической среде, окружающую действительность и фольклорную образность, вплоть до злобных демонов и «летунов» [Велецкая, 1988, с. 207], воплощающих души заложных покойников . Фольклорные сюжеты и мотивы, связанные со змееобразными персонажами, сохранили три основных ступени развития этих образов. Первая из них связана с ролью змеи-защитницы и покровительницы рода. Вторая ступень представлена сюжетами о любовной связи женщин со Змеями. Третья, поздняя, ступень характеризуется негативным статусом змееподобных персонажей [Козлова, 1994, с. 63–64]. Все эти сюжеты, в большей или меньшей степени, нашли отражение у русских и коми, что подтверждается материалами современной этнографии.