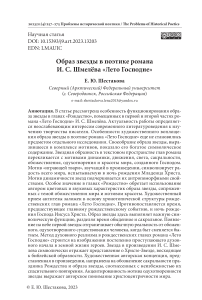Образ звезды в поэтике романа И. С. Шмелёва «Лето Господне»
Автор: Шестакова Е.Ю.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена особенность функционирования образа звезды в главах «Рождество», помещенных в первой и второй частях романа «Лето Господне» И. С. Шмелёва. Актуальность работы определяется неослабевающим интересом современного литературоведения к изучению творчества писателя. Особенности художественного воплощения образа звезды в поэтике романа «Лето Господне» еще не становились предметом отдельного исследования. Своеобразие образа звезды, выразившееся в комплексе мотивов, показало его богатое символическое содержание. Звездная образность в текстовом пространстве глав романа перекликается с мотивами динамики, движения, света, сакральности, обожествления, одухотворения и красоты мира, созданного Господом. Мотив «играющей твари», звучащий в произведении, символизирует радость всего мира, испытываемую в ночь рождения Младенца Христа. Мотив динамичности звезд подчеркивается их антропоморфными свойствами. Особое значение в главах «Рождество» обретает использование автором цветовых и звуковых характеристик образа звезды, сопряженных с темой обожествления мира и мотивом красоты. Художественный прием антитезы заложен в основу хронотопической структуры рождественских глав романа «Лето Господне». Противопоставляется время, предшествующее главному рождественскому событию, и ночь рождения Господа Иисуса Христа. Образ звезды здесь выполняет важную символическую функцию, разделяя время обыденное и сакральное. Появление на небе первой звезды отграничивает обычную реальность от обоженного, одухотворенного существования человека, когда быт сменяется бытием. Метод духовного реализма в рождественских главах романа «Лето Господне» строится на изображении постепенно проступающего духовного начала в земной жизни героев. Звезда в произведении И. С. Шмелёва символически отражает представление о Христе-Звезде, восходящее к библейской образности. Художественная авторская концепция, представленная в произведении, направлена на обозначение сакральности праздника Рождества и образа звезды, соотнесенных с неизбежностью их спасительного повторения. Акцентированность мотива одухотворенности звезды выражает авторское понимание христоцентричности мира.
Образ звезды, иван сергеевич шмелёв, лето господне, рождество, сакральный образ, мотив, символика, русское зарубежье
Короткий адрес: https://sciup.org/147242335
IDR: 147242335 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.13203
Текст научной статьи Образ звезды в поэтике романа И. С. Шмелёва «Лето Господне»
Р оман «Лето Господне» (1927–1948) является вершинным произведением в творческом наследии русского писателя первой половины XX в. Ивана Сергеевича Шмелёва (1873–1950). И. А. Ильин в книге «О тьме и просветлении. Книга художественной критики: Бунин, Ремизов, Шмелёв» дал высокую оценку содержательным и языковым особенностям произведения. Он отметил, что в художественном повествовании «все связаны воедино неким непрерывным обстоянием — ж и з н ь ю р у с с к о й н а ц и о н а л ь н о й р е л и г и о з н о с т и, этими вздохами русской души, этим религиозно-бытовым пением ее, однородным, верным себе и мерно следующим за двусолнечным вращением Лета Господня…» [Ильин, 1959: 174–175]. И. А. Есаулов в статье «Праздники. Радости. Скорби: Литература русского зарубежья как завершение традиции» писал об «осмысленной духовной жизнеустойчивости» «шмелёвско-го космоса», особенностях временной структуры романа «Лето Господне», когда «время <…> не просто прорывается к вечности через густой, осязаемый быт, но и само является именно эхом православной вечности, освящающей каждое мгновение цикличного земного года» [Есаулов, 1992: 236, 241].
-
А. М. Любомудров в статье «Богоищущая душа. Духовное и мирское в творческой судьбе И. С. Шмелёва» подчеркнул, что роман «Лето Господне» обращен к «теме Православия, всерьез осмысленного религиозного сознания, вере как опоре и сокровенной душе России» [Любомудров, 2009a: 239]. Для И. С. Шмелёва как выдающегося художника слова, по мнению М. М. Дунаева, характерен «особый тип мировиденья <…>, особый принцип отображения жизни», который заключается
в «стремлении прозревать "укрытую красоту" под внешнею оболочкою» [Дунаев: 171, 188]. Согласно определению исследователя, эта художественная установка, сложившаяся в дооктябрьский период творчества писателя, в эмиграции обретает новые смыслы. И. С. Шмелёву становится свойственно «духовное осмысление жизни в рамках секулярной культуры и затем выход за эти рамки, освоение пространства вне душевной сферы бытия, над нею» [Дунаев: 189]. В результате формируется новый творческий метод — духовный реализм [Любомудров, 2003], [Дунаев].
В романе «Лето Господне» метод духовного реализма раскрывается во всей полноте, его повествование строится на соединении «мира незримого, духовного» и «земного», «видимого» [Осьминина]. В книге «впервые в русской литературе широко запечатлено воцерковленное бытие» [Любомудров, 2009b: 6]. Посредством слова писатель раскрывает сакральное значение христианских истин, православных церковных праздников. В романе показан «мир, насыщенный Божественной значительностью, священностью, святостью » [Ильин, 2009: 45].
Е. М. Болдырева обращает внимание на то, что в романе «Лето Господне» «тема утраченной родины <…> отчетливо приобретает черты "утраченного рая", и эта мифологема организует всю художественную структуру романа» [Болдырева: 243]. Об органичной связи произведения с православием писали Н. Г. Морозов в статье «Традиции святоотеческой духовности в повести И. С. Шмелёва "Лето Господне"» [Морозов], Е. Б. Ляйрих в работе «Православие как основа существования русской действительности в автобиографическом романе И. С. Шмелёва "Лето Господне"» [Ляйрих], Л. А. Лысенко в статье «Отражение личной религиозности автора в описании русских традиций православных праздников в поэме в прозе "Лето Господне" И. С. Шмелёва» [Лысенко].
-
В. Т. Захарова, размышляя об особенностях поэтики прозы И. С. Шмелёва, наиболее подробно остановилась на вопросе проявления черт импрессионизма в стиле его произведений [Захарова, 2003, 2015]. Пути обретения России в шмелёвской
прозе стали предметом научного осмысления Н. И. Пак [Пак]. Е. А. Коршунова отдельное внимание уделила проблеме традиции и интертекстуальности в прозе писателя [Коршунова]. Специфика поэтики художественного времени в творчестве И. С. Шмелёва рассмотрена Н. И. Соболевым [Соболев]. Л. Ю. Суровова проследила историю возникновения и развития замысла романа «Лето Господне» [Суровова]. А. В. Шушле-бина раскрыла своеобразие решения темы семейного воспитания в романе «Лето Господне» [Шушлебина].
Отдельный круг исследований связан с изучением света и цвета в произведениях И. С. Шмелёва [Марченко], [Мерцалова], [Степанова], [Макаров]. Особенности художественного воплощения образа звезды в романе «Лето Господне» не становились предметом научного осмысления. «Небесная» образность рассматривалась относительно солярного образа [Дзыга], [Федотов].
Своеобразие художественного текста, связанного с его богатой многоплановостью, которая обнаруживается в процессе интерпретации, наиболее отчетливо раскрывается на примере отдельного значимого образа. Этот подход в полной мере применим к роману «Лето Господне», в котором образ звезды, воссозданный в главах «Рождество» (первая и вторая части), исполняет значительную художественно-концептуальную функцию.
Повествовательная структура главы «Рождество», входящей в первую часть книги, включает автора и адресата, к которому обращены воспоминания о русском православном празднике. Писатель строит главу в форме рассказа своему племяннику, Ивистиону Жантийому-Кутырину, чье детство проходило в отрыве от русской культуры, во Франции. Глава начинается с обращения: «Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество»1. Важной установкой для маленького слушателя является призыв: «Не поймешь чего — подскажет сердце» (97). Автор указывает на необходимость эмоционального включения в повествование, без чего не может состояться постижение глубокого, духовного, истинного смысла праздника Рождества.
Глава «Рождество» в жанровом отношении представляет собой одновременно автобиографический и исповедальный текст, соединяющий реально-событийный и духовный пласты. Мотив памяти, введенный автором, прочно скрепляет эти повествовательные уровни, придавая тексту цельность и законченность. Перед мальчиком разворачиваются пейзажные картины, ключевыми образами которых становятся «глубокие снега», «сугробы», мерзнущий воздух, туман (97), крепкие морозы. Мотив изобилия звучит в природных зарисовках русской зимы — времени празднования Рождества. Снега настолько много, что он «свисает с крыш», лежит «на крышах, на заборах, на фонарях», может даже «за ворот засыпать» (97).
Зимняя природная зарисовка обрамляет бытовые сцены, детально перечисляется пища, вкушаемая русским народом во время рождественского поста («Шесть недель постились, ели рыбу. Кто побогаче — белугу, осетрину, судачка, наважку; победней — селедку, сомовину, леща…») и в рождественские праздники («Зато на Рождество — свинину, все») (97).
Образ «мороженых свиней» актуализирует мотив изобилия, сопровождающий образ рождественской Москвы. Свиные туши «навалены» в торговых местах, «словно бревна». «Свиной» ряд, протянувшийся вдоль Конной площади, плавно перетекает в «гусиный», «куриный», «утиный» (98), и далее — туда, где продаются глухари, тетерки, рябчики, баранина. В результате возникает образ богатой, хлебосольной Москвы, и, шире, России.
Продолжением образного ряда, соотнесенного с мотивом изобилия, становится рождественская елка: «Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, — лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь» (98). Автор сравнивает рождественские ели за рубежом («тычинки») и в России: «У нашей елки… как отогреется, расправит лапы, — чаща» (98). Горячий сбитень, жгучий мороз вместе с радостным праздничным ощущением рождают оксюморонный образ России, воплощенный в авторской характеристике: «Морозная Россия, а… тепло!‥» (98).
Тема дореволюционной России, развернутая в начальных эпизодах главы «Рождество», продолжена в сцене, описывающей Сочельник. Намеченный ранее бытовой аспект в освещении темы русского Рождества получает развитие в образах кутьи и «взвара», сопровождаемых детальным перечислением ингредиентов: пшеница, мед, чернослив, груша.
Появление первой звезды отделяет обрядово-бытовое существование русского человека от сакрального, когда быт сменяется бытием. Образ звезды, впервые возникающий в тексте, постепенно расширяется, наполняется глубоким символическим содержанием. Вначале он множествен («Первая звезда, а вон — другая…» — 99), звезды предстают в своей общности, совокупности, нерасторжимом единстве. Они осмысляются небесными светилами, сотворенными Богом для разделения дня и ночи, как это описано в Библии: «И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы» (Быт. 1:16–18). В этом же значении звезды упоминаются в Псалме 135: «Славьте Бога, ибо <…> сотворил светила великие <…> луну и звезды — для управления ночью, ибо вовек милость Его» (Пс. 135:2, 7, 9).
Образ звезд как творения Господа, «дело Его перстов» (Пс. 8:4) соотносится с мотивом красоты Божьего мира, контекстуально обрамляющего первое появление звездной образности в главе «Рождество». Красота ледяных узоров на окне («Елочки на них, разводы, как кружевное» — 99) сопрягается с панорамной картиной звездного неба в следующем смысловом отрывке текста.
Автор намеренно использует тройной повтор восклицательных конструкций, открывающих эпизод, описывающий ночное небо: «А какие звезды!‥», «А звезды‥!», «А какие звезды!‥» (99). В результате в текст входит мощная поэтическая составляющая. Автор-рассказчик словно поет гимн звездам, потрясенный их ослепительным великолепием, разнообразием и многочисленностью. Мотив красоты звездного неба включается в световой контекст, обретающий символическое звучание. Тьма мира, актуализированная в образе «черного неба», рассеивается
«кипящим», «дрожащим, «мерцающим» (99) звездным светом. Эта художественная картина наполнена отчетливыми библейскими аллюзиями на Книгу Пророка Иеремии: «Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью…» (Иер. 31:35).
Звездное небо предстает в своей монументальности, масштабности, образ находится в непрерывном движении. Динамичность звезд подчеркнута антропоморфными деталями: «Усатые, живые, бьются, колют глаз» (99).
Световое наполнение звездного контекста включает в себя и цветовые маркеры, развивающие мотив красоты. Метафорическое уподобление звезд «голубому хрусталю» получает продолжение в цветовой гамме: «и синий, и зеленый», «разными огнями блещут» (99).
В главе «Рождество» ярко выражено представление о звоне звезд. Здесь акустическая данность звездного контекста предстает доминантной по отношению к «древнему», «степенному», «с глухотцой» (99) звону Кремля. Авторская концептуальная интенция целенаправленно сплавляет воедино звуковое («звон», «гул»), тактильное, осязательное («морозный», «как бархат», «тугое») и визуальное («серебро») (99) наполнение образов звезд.
Звуковая характеристика звездной образности представляет художественную интерпретацию мотива сакральности. Звон звезд напоминает автору-рассказчику, будто тысяча церквей играет» (99). Метафора игры-звона используется здесь наряду с глаголами движения: «стелет звоном», «кроет серебром», «плывет, не молкнет» (99). «Звездный звон» достигает космических масштабов: и небо, и земля наполняются «гулом» звезд, окутывающим «синий снег», сугробы, «серебрящийся пылью», «дымный», «синий» воздух (99). Художественная символика этого эпизода близко перекликается с представлением о вселенской гармонии и красоте. Мотив божественного чуда всецело соотнесен с образом «звенящих» звезд. Семантика «звона-чуда», «звона-видения» тесно связана с мотивом прославления Бога (99).
Рождественская ночь осмысляется сакральным временем, когда звезды как часть сотворенного Богом мира вместе с людьми поют рождественские тропари. Звучащее звездное славословие вводится автором в контекст христианской вечности. «Ласковый напев-молитва», осеняющий ясли Младенца Христа, длится в настоящем существовании взрослого повествователя, вызывая в памяти «кроватку» из детства, и не умолкнет вовек.
Храм, в котором состоялась всенощная, выступает модулем пограничности, переходности. Время до рождения Христа, неотделимое от понятия духовной тьмы, противопоставлено новому времени, наступившему с момента прихода Богочеловека, наполнившего все вокруг Божественным светом. Мотив обновления мира отчетливо актуализируется в образах звезд: «И звезды — <…> новые, рождественские звезды» (100).
Звезды включаются в динамичный процесс одухотворения, обожения пространства и времени. Это позволяет рассказчику выделить особую Святую Звезду, вполне сопоставимую с библейским образом. В наиболее ярком виде сакральный характер Святой Звезды проявлен в описании ее «давности». Она подчеркнуто связана с событиями, описанными в Библии. В Евангелии от Матфея волхвы несколько раз замечали необычную звезду: сначала на востоке или на восходе, позже — ее же, но «остановившуюся» над домом, в котором находились Богомладенец и Пресвятая Дева Мария: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. <…> И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2:1–12).
Модель пограничной ситуации выстраивается в тексте на основе оппозиции: «сейчас» / «тогда». Давнее время (волхвы, ведомые звездой к яслям Младенца Христа) антиномично и одновременно родственно прошлому (детству) и настоящему (сегодняшней жизни автора). Порубежье эпизода из библейской истории и современности преодолевается благодаря личности повествователя. В его восприятии (преимущественно речь идет о времени детства) «та давняя звезда, которая волхвам явилась», находится сейчас над ним — «над Барминихиным двором, над садом» (100).
В поэтике главы «Рождество» черты сакрального хронотопа присутствуют одновременно и в прошлом, и в настоящем. Детское мировосприятие преодолевает временные и пространственные границы, раскрывая характер глубинной связи евангельских событий и настоящего времени. Герой-ребенок обращен к хронотопу вечности, формирующему идею непрерывно повторяющегося чуда — рождения Младенца Христа. Святая Звезда здесь обнаруживает преемственность с библейскими событиями, она ежегодно появляется «над этим садом» точно так же, как когда-то возникла перед взорами волхвов.
Образ Святой Звезды в тексте связан с семантикой голубого цвета («Она голубоватая. Святая») (100), актуализирующем значения возвышенности, небесной чистоты, гармонии и ясности. Голубой цвет в данном смысловом контексте является «символом божественной вечности» [Серов: 405], «зрится как духовная суть мира» [Флоренский: 310].
Одним из характерных свойств образа Святой Звезды в главе «Рождество» является ее путеводность. Когда-то она вела волхвов к Младенцу Христу, а сейчас направляет духовное, внутреннее движение рассказчика. Автор совершает воображаемый путь к яслям «маленького Христа» (100). Примечательно, что ведущим структурообразующим сюжетом в эпизоде с Путеводной Звездой становится появление образов волков, предстающих лишь в сознании героя-ребенка. Для него волки ассоциируются с образами «волхвов, мудрецов» (100) и созвучны старославянскому слову «волсви», звучащему в рождественском тропаре. Непонятное слово, превращаясь в знакомый образ, воссоздает в детском восприятии яркую картину.
Герой-ребенок наделяет лесных хищников, ведомых Святой Звездой, добротой, смирением, радостью от появления
«маленького Христа». Ситуация, описанная в эпизоде, прочитывается символически как духовное преображение живых существ при встрече с Христом. Зло, греховные страсти, олицетворенные в образах волков, оказываются побежденными силой Божественного света. Мотив обновления мира, заявленный ранее, углубляется, органически сплавляется с представлением о важных переменах, происходящих в душе, ощутившей предельную близость к Богу.
Острый пафос внутреннего движения, звучащий в эпизоде с волками («А стыдно им… злые такие были») (100), достигает апогея в его завершении. Младенец Христос милостиво принимает раскаявшихся «грешников» в Своем доме. Образ «толпящихся» и «светящих» у входа звезд (100), венчающий описанную сцену, исполнен глубокого христианского символизма, поставлен в тесную связь с благословляющей силой Бога.
В этом смысловом контексте образ Святой Звезды, возникающий в главе «Рождество», вбирает в себя библейское представление о том, что Христос — это «звезда светлая и утренняя» (Откр. 22:16). В основе художественной природы шмелёвского образа лежит понимание неизбежности Божественного Промысла, определяющего жизненный вектор каждого живого существа. Господь направляет, освещает путь и человека, и животного.
В романе И. С. Шмелёва образ живого Христа-Звезды, получающий символическое осмысление, соединяет прошлое, настоящее и будущее не только отдельной человеческой жизни, но и истории мира. Ключевой для поэтики текста главы «Рождество» выступает идея Божией благодати и любви. Христос-Звезда дарует Свой свет каждому живому существу, его «стрелки»-лучи (100) обращены ко всем земным обитателям.
Божественный свет, исходящий от Христа-Звезды, продолжает свое существование в лампадках и печных огнях, наполняет домашнее пространство, окружающее героя-ребенка, особым теплом. Вследствие этого пространство дома обретает значение сакрального хронотопа, в границах которого разливается «тихий свет, святой» (101). В итоге «время Шмелёва не просто прорывается к вечности через густой, осязаемый быт, но и само является именно эхом православной вечности, освящающей каждое мгновение цикличного земного года» [Есаулов, 2023: 28]. Несмотря на то, что Звезда, «та, Святая, ушла» (103), свет Божией благодати продолжает жить и царить в земном мире.
Благодатный свет Рождественской Звезды приносится в дом маленького героя мальчиками, его друзьями, среди которых выделяются образы Мишки Драпа, сапожника Васьки, «мальчишки портного Плешкина» (102). Примечательно, что в этом эпизоде именно с героями-детьми связывается представление о тепле и свете Божественной любви. «Звезда на палке» — «картонный домик» с «окошками из бумажек, пунцовых и золотых» (101–102), находящийся в руках Мишки Драпа, становится зримым воплощением этой Любви, совмещая высокий духовно-христианский смысл образа Звезды и прозу жизни земного человека.
Рождественское представление, разыгрываемое мальчиками, делает события евангельской истории современными, происходящими в настоящем бытии, понятными героям. И «царь-Ирод», и путешествующие волхвы, и «царь Кастин-кин» (103), и Младенец, явленные в домашнем спектакле, не утрачивают своего высокого значения. Народное славословие, вложенное в уста мальчиков («С нами Звезда идет, / Молитву поет») (102), в полной мере утверждает красоту и благодать Божественной любви, изливающейся от Святой Звезды.
Эта благодать заключена и в «серебряной звездочке» на верхушке домашней елки (103). Здесь наблюдается синтез образа звезды: она и простая елочная игрушка, праздничное украшение, и воплощение сакрального начала, соотнесенного с образом-символом Христа-Звезды.
Метафора света, сопряженная с образом Святой Звезды, всецело определяет художественное своеобразие главы «Рождество» во второй части романа «Лето Господне». В центре авторского внимания оказывается образ «светящегося Рождества» (230), зажегшегося света в сердце.
Образы домашних лампад — «праздничных», «рождественских», «белых и голубых» (233) — выражают тему «светящегося Рождества». Причем свет в детском восприятии соединяется с запахом («зеркально блестят паркетные полы, пахнущие мастикой с медовым воском, — запахом Праздника») и цветом
(«В гостиной стелют "рождественский" ковер, — пышные голубые розы на белом поле, — морозное будто, снежное») (233).
Осененность земного пространства благодатным Светом, исходящим от Христа-Звезды, проявляется в мотиве изобилия и в этой главе: «На высоких шестах висят на мочалках поросята, пучки рябчиков, пупырчатые гуси, куры, чернокрылые глухари» (233), «Свиней навезли горы. По краю великой Конной тянутся, как поленницы, как груды бревен-обрубков: мороженая свинина сложена рядами, запорошило снежком розовые разводы срезов…» (235). Автор подчеркивает неизбежность наступления праздника Рождества и прихода в мир Христа-Звезды, поскольку в повторяемости этого события заложена надежда на спасение человечества от окончательного воцарения зла и тьмы.
Художественный мир, созданный в главе «Рождество», организуется соотнесением образа света с мотивами радости и счастливого предвкушения чудесных событий. Мотив радости перекликается с образом «играющей твари» (236). Игра — важная составляющая темы русского Рождества в романе. Метафора игры пронизывает всю образную структуру текста главы. Практически все художественное пространство предстает охваченным и вовлеченным в радостную игру: и «поющий», «похрустывающий снежок», и «промерзшие заборы», и «дубовые ворота» (230), и мальчишки с санками, и дым, и звезды.
Определяющим в этой структуре выступает мотив прославления Бога. Автор выстраивает особый космос, одухотворенный, обожествленный, предстающий как единый «хор», поющий хвалу Господу. Мотив игры в такой космологической системе не просто инициативен, но концептуален. «Игра» сопрягается с прославлением прихода Христа в земной мир, радостным пением всего мироздания. Внутренние связи проникают во все творение Божие, уравниваются и человек, поющий рождественские тропари в храме, и «радостная» собака Бушуй, и «лошадки, копытцами перебирающие» (238) в конюшне. В атмосферу радости включены бытовые предметы, вещи, Рождеству радуется даже «паук» — «шест» с «круглой щеткой», предназначенный «обметать паутину из углов» (232). В словах Клавнюши в финале главы «Рождество» заключена основная идея текста: «Все Божии» (238).
Итак, образ звезды в главах «Рождество» (первая и вторая части) романа «Лето Господне» выходит за рамки ординарности, приобретает очевидный символический характер, особую значимость. Образ звезды в тексте отмечен характерными мотивами динамики, движения, «играющей твари», света, сак-ральности, обожествления, одухотворения, красоты Божьего мира. Комплекс цветообозначений и звуковых характеристик образа звезды связывает тему обожествления мира с мотивом красоты. Весь этот тематический и мотивный комплекс порождает семантику оппозиционности, противопоставленности хронотопа, предшествующего рождественским событиям, маркированного как обыденная реальность, и сакрального, наступающего в ночь рождения Младенца Христа. Порубежная ситуация преодолевается символическим контекстом, сопровождающим образ Святой Звезды. Основными в рождественских главах романа «Лето Господне» являются представления о Христе-Звезде. Художественный авторский замысел состоял в том, чтобы передать ощущение сакральности праздника Рождества как события, встроенного в логику непрерывной повторяемости. Заданность одухотворенности образа звезды выступает в рождественских главах важным элементом поэтики, в полной мере раскрывая авторскую идею о христоцентрич-ном мире.
Список литературы Образ звезды в поэтике романа И. С. Шмелёва «Лето Господне»
- Болдырева Е. М. «Утраченный рай» Ивана Шмелева в автобиографической повести «Лето Господне» // Ярославский педагогический вестник. 1999. № 1–2. С. 243–252.
- Дзыга Я. О. Образ солнца в творчестве И. С. Шмелева и К. Д. Бальмонта // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2011. Т. 153. Кн. 2. С. 86–96 [Электронный ресурс]. URL: https://kpfu.ru/portal/docs/F740892025/153_2_gum_9.pdf (22.03.2023).
- Дунаев М. М. Духовный путь И. Шмелева // Духовный путь Ивана Шмелева, 1873–1950: статьи, очерки, воспоминания. М.: Сибирская Благозвонница, 2009. С. 171–197.
- Есаулов И. А. Праздники. Радости. Скорби: литература русского зарубежья как завершение традиции // Новый мир. 1992. № 10. С. 232–242.
- Есаулов И. А. Поэтика русского мiра Ивана Шмелева // Проблемы исторической поэтики. 2023. Т. 21. № 2. С. 7–37 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1687187573.pdf (22.03.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2023.12442. EDN: GORZCK
- Захарова В. Т. Импрессионизм в поэтике «Лета Господня» И. Шмелева // И. С. Шмелев и духовная культура православия: IX Крымские Международные Шмелевские чтения: сб. мат-лов Междунар. науч. конф. (12–16 сентября 2000 г.). Симферополь: Таврия-Плюс, 2003. С. 64–69.
- Захарова В. Т. Поэтика прозы И. С. Шмелева. Нижний Новгород: Мининский ун-т, 2015. 106 с.
- Ильин И. А. О тьме и просветлении: книга художественной критики: Бунин, Ремизов, Шмелев. Мюнхен: Тип. Обители преп. Иова Почаевского, 1959. 196 с.
- Ильин И. А. Православная Русь. «Лето Господне. Праздники» И. С. Шмелева // Духовный путь Ивана Шмелева, 1873–1950: статьи, очерки, воспоминания. М.: Сибирская Благозвонница, 2009. С. 45–57.
- Коршунова Е. А. Между классикой и модерном: традиция и интертекстуальность в поэтике прозы Ивана Шмелева: к 140-летию со дня рождения И. С. Шмелева. Харьков: Бровин А. В., 2013. 215 с.
- Лысенко Л. А. Отражение личной религиозности автора в описании русских традиций православных праздников в поэме в прозе «Лето Господне» И. С. Шмелева // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. С. 464 [Электронный ресурс]. URL: https://science-education. ru/ru/article/view?id=13971 (22.03.2023).
- Любомудров А. М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 272 с.
- Любомудров А. М. Богоищущая душа. Духовное и мирское в творческой судьбе И. С. Шмелева // Духовный путь Ивана Шмелева, 1873–1950: статьи, очерки, воспоминания. М.: Сибирская Благозвонница, 2009. С. 227–282. (a)
- Любомудров А. М. От составителя // Духовный путь Ивана Шмелева, 1873–1950: статьи, очерки, воспоминания. М.: Сибирская Благозвонница, 2009. С. 5–8. (b)
- Ляйрих Е. Б. Православие как основа существования русской действительности в автобиографическом романе И. С. Шмелева «Лето Господне» // Альманах современной науки и образования. 2008. № 2 (9). Ч. 1. С. 135–137.
- Макаров Д. В. Эволюция световых образов в творчестве И. С. Шмелева // Богословский вестник. 2019. № 4 (35). С. 257–278 [Электронный ресурс]. URL: https://publishing.mpda.ru/index.php/theological-herald/article/view/223 (22.03.2023). DOI: https://doi.org/10.31802/2500-1450-2019-35-257–278
- Марченко Т. В. Символика цвета в прозе И. Шмелева: синее, розовое и золотое // Шмелев И. С. Мир ушедший — мир грядущий: тезисы докладов II Крымской международной научной конференции, 21–25 сентября. Алушта: [б. и.], 1993. С. 22–24.
- Мерцалова С. Религиозная репрезентация цветового компонента в эмигрантском творчестве И. С. Шмелева // Святоотеческие традиции в русской литературе: мат-лы I Всероссийской интернет-конференции с международным участием. Омск: Вариант-Омск, 2010. С. 81–87.
- Морозов Н. Г. Традиции святоотеческой духовности в повести И. С. Шмелева «Лето Господне» // Литература в школе. 2000. № 3. С. 26–31.
- Осьминина Е. А. Иван Шмелев — известный и скрытый // Москва. 1991. № 4. С. 206.
- Пак Н. И. Пути обретения России в произведениях Б. К. Зайцева и И. С. Шмелева // Литература в школе. 2000. № 2. С. 34–39.
- Серов Н. В. Античный хроматизм. СПб.: Лисс, 1995. 477 с.
- Соболев Н. И. К проблеме поэтики художественного времени в произведениях И. С. Шмелева // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Общественные и гуманитарные науки. 2014. № 7 (144). Ноябрь. С. 87–89.
- Степанова Н. С. Концепт «золото» в художественном мире И. С. Шмелева (на материале автобиографических книг «Лето Господне», «Богомолье») // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистики и педагогика. 2018. Т. 8. № 4 (29). С. 82–89.
- Суровова Л. Ю. Движение замысла романа И. Шмелева «Лето Господне»: от очерка к роману // Наследие И. С. Шмелева: проблемы изучения и издания: сб. мат-ов Международных научных конференций 2003 и 2005 гг. М.: ИМЛИ РАН, 2007. С. 272–280.
- Федотов О. И. Черное солнце Ивана Шмелева // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2013. № 4. С. 93–109.
- Флоренский П. Избранные труды по искусству. М.: Изобразительное искусство, 1996. 519 с.
- Шушлебина А. В. Тема семейного воспитания в повести «Лето Господне» И. С. Шмелева // Международный научно-исследовательский журнал. 2012. № 5 (5). С. 133–134.