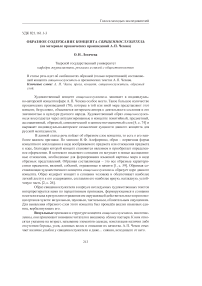Образное содержание концепта священнослужитель (на материале прозаических произведений А. П. Чехова)
Автор: Логачева Оксана Ивановна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье речь идет об особенностях образной (только перцептивной) составляющей концепта священнослужитель в прозаических текстах А. П. Чехова.
А. п. чехов, проза, концепт, священнослужитель, образный слой
Короткий адрес: https://sciup.org/146122076
IDR: 146122076 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи Образное содержание концепта священнослужитель (на материале прозаических произведений А. П. Чехова)
В данной статье речь пойдет об образном слое концепта, то есть о его наиболее важном признаке. По мнению Н. Ф. Алефиренко, образ – первичная форма концептного воплощения в виде воображаемого предмета или отношения предмета к идее, благодаря которой концепт становится явлением и приобретает определенное оформление. В контексте языкового сознания он вступает в новые ассоциативные отношения, необходимые для формирования языковой картины мира в виде образных представлений. Образная составляющая - это все образные характеристики предметов, явлений, событий, отраженные в памяти [1, с. 59]. Образная составляющая художественного концепта священнослужитель образует ядро данного концепта. Образ кодирует концепт в сознании человека и обеспечивает наиболее легкий доступ к его содержанию, составляя его наиболее яркую, наглядную, устойчивую часть [2, с. 26].
Образ священнослужителя в корпусе исследуемых художественных текстов интерпретируется нами по перцептивным признакам, формирующимся в сознании носителя языка в результате отражения им окружающей действительности при помощи органов чувств: визуальным, звуковым, тактильным, обонятельным ощущениям. Для выявления образного слоя этого концепта был проведён анализ языковых единиц, вербализующих его.
Визуальные признаки в структуре концепта священнослужитель многочисленны, они привлекают внимание читателя к внешнему облику пастыря. К ним относятся указание на возраст, называние элементов одежды, констатация наличия либо отсутствия бороды, усов, длинных волос и описание их качества. А. П. Чехов отмечает наличие улыбки у священнослужителя и даже… сияния, исходящего от него.
У автора при описании внешнего вида священнослужителя наибольшей концептуальной значимостью обладает информация о возрасте: « старый дьячок» [6, т. 4, с. 154]; «у старика (дьячка - О. Л.)» [Там же, с. 154]; « молодой… двадцать восемь - с …» (отец Яков Смирнов - О. Л.) [Там же, с. 150]; «благочинный отец Федор Орлов … лет пятидесяти …» [Там же, т. 6, с. 67]; «это был старик шестидесяти пяти лет , дряхлый не по летам…» (отец Анастасий - О. Л.) [Там же]; «…приходил дьякон, молодой человек, лет 22 …» [Там же, т. 7, с. 221]. Писатель, неоднократно указывая на пожилой возраст священнослужителя, дает ожидаемую национально обусловленную оценку образа. В данном случае актуализируется доминантный признак «старый» внешнего облика пастыря, входящий в ядро национального концепта. Вместе с тем писатель вносит свое видение образа, используя уменьшительно - ласкательные формы старичок и даже старикашечка . Автор часто прямо указывает на возраст, использует описательный оборот «почтенные годы» и называет внешние признаки старости: «седой», «дряхлый», «дряхленький».
Что касается образного признака «одежда», то это актуализация внимания читателя на традиционных для священнослужителя одеяниях: «На нем была ряска …» [Там же, т. 4, с. 150]; «На … иерее была помятая и длинная - предлинная риза… » [Там же, с. 153]; «жалкая, карикатурная фигура, в длинной помятой ризе …» [Там же, с. 156]; «...волосатый дьякон … в лиловой рясе …» [Там же, т. 1, с. 202]; «отец Петр, маленький попик, в коричневой рясе …» [Там же, с. 249]; «…иерей в широкополом, позеленевшем от времени цилиндре и в парусинковой ряске » [Там же, т. 3, с. 328]; «…архимандрит в золотой митре » [Там же, т. 4, с. 174]; «Дьякон удивленно посмотрел на … Анастасия, на его распахнувшуюся рясу , похожую в потемках на крылья…» [Там же, т. 6, с. 75]. Именования одеяний репрезентируют образ типичного русского священнослужителя.
Разумеется, нельзя не сказать о таких визуальных компонентах концепта священнослужитель , как «длинные волосы», «усы» и «борода»: «Длинные рыжие волосы , сухие и гладкие, спускались на плечи прямыми палками. Усы еще только начинали формироваться в настоящие, мужские усы, а бородка принадлежала к тому сорту никуда не годных бород, который у семинаристов почему - то называется “скоктанием”: реденькая, сильно просвечивающая; погладить и почесать ее гребнем нельзя, можно разве только пощипать… Вся эта скудная растительность сидела неравномерно, кустиками, словно отец Яков, вздумав загримироваться священником и начав приклеивать бороду , был прерван на половине дела» [Там же, т. 4, с. 150]; у отца Якова «серо - голубые глаза с жидкими, едва заметными бровями » [Там же, с. 150]; «седые с зеленым отливом косички на затылке» [Там же, т. 6, с. 67; « волосатый дьякон» [Там же, т. 1, с. 202], «его большая длинноволосая благообразная голова, напоминавшая архиерея…» [Там же, т. 8, с. 289]; «…приходил дьякон … длинноволосый , без бороды и с едва заметными усами » [Там же, т. 7, с. 221]. Известно, что в русской церковной традиции борода и длинные (удлиненные) волосы были и остаются отличительными признаками православного духовенства, что вполне согласуется и с богослужебным облачением, и с традиционным восприятием священнослужителей православными христианами.
Что касается остальных визуальных образных компонентов концепта священнослужитель, то следует отметить полярные: «производит хорошее внешнее впечатление» и «производит отталкивающее внешнее впечатление». К первой группе относятся: «Благочинный отец Федор Орлов, благоообразный,… как всегда важный и строгий, с привычным, никогда не сходящим с лица выражением до- стоинства…» [Там же, т. 6, с. 67]; «Этого симпатичного поэтического человека (иеродьякона Николая - О. Л.) … не понятого и одинокого, я представляю себе робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В его глазах, рядом с умом, должна светиться ласка и та едва сдерживаемая, детская восторженность…» [Там же, т. 4, с. 175]. А. П. Чехов при описании фигуры священнослужителя выделяет признаки «высокий», «плотный». Интересно, что советские художники изображали священнослужителя очень полным. Писатель же употребляет слово «плотный», что совсем не одно и то же. Речь в его рассказах идет о духовенстве нижней ступени, весьма зависимом от подаяний прихожан.
Ко второй группе относятся: «дьячок, очевидно больной и глухой » [Там же, с. 154]; у отца Якова « аляповатое, бабье лицо », « очень много бабьего: вздернутый нос, ярко - красные щеки ...» [Там же, с. 150], «малорослый, узкогрудый, с потом и краской на лице … есть такие жалкие и несолидные на вид священники … ему виделось отсутствие достоинства и даже подхалимство » [Там же, с. 151]; « жалкая, карикатурная фигура … бабье лицо » [Там же, с. 156]; «Отец Сисой был … тощ, сгорблен, всегда недоволен чем - нибудь, и глаза у него были сердитые, выпуклые, как у рака » [Там же, т. 9, с. 382], «епархиальный архиерей … очень полный, был болен ревматизмом или подагрой …» [Там же, с. 386]; «Николай, простой монах, иеродьякон … даже видимости наружной не имел …» [Там же, т. 4, с. 170]. И здесь большое внимание уделяется фигуре священнослужителя, подчеркивается признак «худой» (8 словоупотреблений). При описании лица, щек, глаз неоднократно подчеркивается их красный цвет (6 словоупотреблений), что в данном случае создает отталкивающее визуальное впечатление.
Нельзя не упомянуть такой визуальный признак концепта священнослужитель , как улыбка: «выглядывала пьянеющая физиономия дьячка Манафуилова и преехидно улыбалась » [Там же, т. 1, с. 224]. В данном примере слово преехидно значительно снижает внешнее впечатление от улыбки дьячка. «Отец же Христофор не переставал удивленно глядеть на мир божий и улыбаться . Молча он думал о чем - то хорошем и веселом, и добрая, благодушная улыбка застыла на его лице» [Там же, т. 6, с. 320]; «О. Христофор… счастливо улыбался » [Там же, с. 396]; «Войдя в гостиную, он (дьякон Победов - О. Л.) крестился на образ, улыбался …» [Там же, т. 7, с. 221]. Улыбка священнослужителей говорит о доброжелательном отношении к людям, о том, что они рады видеть окружающих и желают им и всему миру добра.
Нельзя не сказать о четырех словоупотреблениях, касающихся общего визуального эффекта от священнослужителя. Это упоминание об их сиянии : «Старик (отец Анастасий - О. Л.) смеялся, сиял …» [Там же, т. 6, с. 72], «Он (дьякон Любимов - О. Л.) просиял от удовольствия» [Там же, с. 76], «Улыбаясь и сияя (старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние ), он (о. Христофор - О. Л.) положил на стол просфору…» [Там же, с. 398]. Это кульминационный штрих в авторском видении образа духовного пастыря. Эти три священнослужителя - носители подлинной веры, проявляющейся в христианском отношении к другому человеку. Недаром в сиянии лучей изображают на иконах голову святого.
Звуковые образы в структуре концепта священнослужитель достаточно многочисленны, они отражают устоявшиеся в обществе стереотипы типичного поведения батюшки: чтение молитв, исполнение церковных песнопений: «дьякон … придал своему лицу суровое выражение и запел вслед за священником: «Рождество твое, Христе боже наш…» [Там же, т. 8, с. 229]; «…о. Христофор после каждой “славы” втягивал в себя воздух, быстро крестился и намеренно громко, чтобы дру- гие крестились, говорил трижды: - Аллилуя, аллилуя, аллилуя, слава тебе, боже!» [Там же, с. 329]. А. П. Чехов получил в детстве серьезное религиозное воспитание и образование, отсюда превосходное знание церковной службы и песнопений.
А. П. Чехов до конца дней сохранил любовь к церковному пению, поэтому в трех рассказах отметил концептуальные признаки вокальных особенностей и тональности голосов духовных пастырей, правда, вызывающих неприятное впечатление: « глухой стариковский бас дьячка» [Там же, т. 9, с. 5], «у старика был глухой, болезненный голос, с одышкой, дрожащий и шепелявый » [Там же, т. 4, с. 154], «дьячок поет плохо, неприятным глухим басом…» [Там же, с. 106].
Совершенно нестереотипным для описания священнослужителя является такой звуковой образ, как смех. Священнослужители А.П. Чехова, причем лучшие из них, часто смеются: «о. Александр, человек смешливый и веселый, не засмеялся» [Там же, т. 6, с. 53]; «Отец Анастасий еще больше сконфузился, засмеялся …» [Там же, с. 69]; «Дьякон весело и громко рассмеялся » [Там же, с. 75]; «Отец же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый …» [Там же, с. 325]; «И преосвященный засмеялся от радости (узнав, что приехала мать - О. Л.» [Там же, т. 9, с. 379]; «И преосвященный засмеялся » (после воспоминаний о своем учителе из семинаристов с собакой Синтаксисом) [Там же, с. 381]. В данном случае индивидуальное сознание автора, наделившего священнослужителей способностью часто и искренне смеяться идет вразрез с религиозным представлением о несовместимости служения Богу и смеха (ср.: Евангелие от Луки: «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете» (Лк. 6, 25) и народным представлением о роли священнослужителя в жизни общества. Считалось, что смех непозволителен христианину (достаточно вспомнить русские поговорки: «Где смех, там и грех», «И смех, и грех»), тем более священнослужителю.
В структуре образного компонента концепта священнослужитель присутствует обонятельный компонент: «В номерке … пахло о. Христофором, который всегда издавал запах кипарисов и сухих васильков (дома он делал из васильков кропила и украшения для киотов, отчего и пропах ими насквозь)» [Там же, т. 6, с. 53]. Обонятельный образ священнослужителя соотносится с образными признаками воздуха, пропитанного запахом ладана, горящих восковых свечей, лампадного масла, и запах васильков как раз и напоминает запах ладана.
Тактильные образы также присутствуют при описании священнослужителя и его действий: «В его (иеродьякона Николая - О. Л.) глазах, рядом с умом, должна светиться ласка …» [Там же, т. 4, с. 175]; «Он (отец Христофор - О. Л.) ласково взглянул на Егорушку…» [Там же, т. 6, с. 322]; «преосвященный … нежно погладил мать по плечу и по руке…» [Там же, т. 9, с. 383]. Вообще проявление ласки (нежности) гораздо более характерно для женского пола, но автор наделяет им священнослужителей, что весьма нехарактерно для русской литературной традиции изображения духовенства.
Итак, концепт священнослужитель в прозаических произведениях А. П. Чехова имеет эксплицированное образное содержание. Согласно результатам анализа многочисленных художественных текстов, в составе образного компонента данного концепта превалируют визуальный и звуковой компоненты. Это традиционный художественный прием в литературе: описание возраста, внешности героя, производимого им внешнего впечатления, голосовых характеристик. Не выражен вкусовой образ концепта. Тактильный образ репрезентирован словом «ласка», что отображает богатство и оригинальность индивидуально - авторских представлений и ассоциаций.
Анализ образного слоя концепта священнослужитель в произведениях А. П. Чехова приводит нас к рассмотрению ценностно - оценочного слоя. В текстах прослеживается положительная эстетическая оценка концепта. Она эксплицируется теми характеристиками объекта, которые имеют такую оценку. Писатель актуализирует признаки, входящие в ядро национального концепта, а также дает неузуальную оценочную интерпретацию образа. Его священнослужитель проявляет ласку, доброту, он способен «испускать сияние» и пересыпать «свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца» [Там же, т. 4, с. 175], часто «не понятый и одинокий», внешне непривлекательный, но призывающий к тому, чтобы «охотно» прощать «взаимно недостатки и» ценить «бы то, что есть в каждом» [Там же, т. 7, с. 295], побеждать «величайшего из врагов человеческих - гордость» [Там же, с. 307], учиться «со вниманием и прилежанием, чтоб толк был» [Там же, т. 6, с. 398], «со святыми» соображаться [Там же, с. 399].
Список литературы Образное содержание концепта священнослужитель (на материале прозаических произведений А. П. Чехова)
- Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики. Волгоград: Перемена, 1999. 274 с.
- Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика: курс лекций по английской филологии. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. ун-та, 2000. 172 с.
- Никанорова И. В. Образное содержание концепта «Женщина» (на материале произведения Ф. М. Достоевского «Бедные люди»)//Современная филология: мат. междунар. науч. конф. Уфа: Лето, 2011. С. 109-112.
- Тарасова И. А. Идиостиль Георгия Иванова: когнитивный аспект. Саратов: Издво Саратовского ун-та, 2003. 280 с.
- Тарасова И. А. Художественный концепт: диалог лингвистики и литературоведения//Вестник Нижегородского университета. 2010. № 4 (2). С. 742-745.
- Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М.: Правда, 1985.