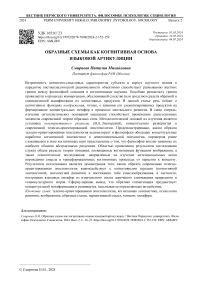Образные схемы как когнитивная основа языковой артикуляции
Автор: Смирнова Н.М.
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия творчества в становлении языка культуры (тематический выпуск)
Статья в выпуске: 2 (58), 2024 года.
Бесплатный доступ
Встроенность ценностно-смысловых характеристик субъекта в корпус научного знания в парадигме постнеклассической рациональности объективно способствует размыванию жестких границ между философией сознания и когнитивными науками. Подобная размытость границ проявляется в процессах конвергенции, обусловившей сходство (или сродство) средств образной и символической манифестации их когнитивных продуктов. В данной статье речь пойдет о когнитивных функциях воображения, точнее, о влиянии его схематизированных продуктов на формирование концептуальных метафор в процессах ментального развития. В свою очередь, изучение онтогенетических оснований мышления способствует прояснению дискуссионных моментов современной теории образных схем. Методологической основой их изучения является установка конструктивного реализма (В.А. Лекторский), концептуально развернутая в современной телесно-ориентированной эпистемологии. Продемонстрировано, каким образом телесно-ориентированная эпистемология ассимилирует и философски обогащает концептуальные наработки когнитивной лингвистики и девелопментальной психологии, опровергая ранее сложившееся в лоне когнитивных наук представление о том, что философия вполне заменима их наиболее общими абстрактными разделами. Областью применения результатов исследования служат общие разделы теории познания, посвященные когнитивным функциям воображения, а также семиотические исследования, направленные на изучение интенциональных актов порождения смысла в трансформационных когнитивных процессах от перцепта к концепту. Результатом исследования является демонстрация того, каким образом современная телесно-ориентированная эпистемология взаимодействует с когнитивными науками (когнитивной лингвистикой, психологией развития) в постижении тайн смыслообразования, в частности, построения языковых метафор из изначального опыта доречевого схватывания природного и социокультурного миров. Сформулирован вывод, что образная схематизация предшествует концептуальной метафоризации и развивается, испытывая ее определяющее воздействие.
Телесно-ориентированная эпистемология, когнитивная лингвистика, психология развития, воображение, образные схемы, перцептивный смысл, концепт, метафора
Короткий адрес: https://sciup.org/147244129
IDR: 147244129 | УДК: 165:81’23 | DOI: 10.17072/2078-7898/2024-2-152-159
Текст научной статьи Образные схемы как когнитивная основа языковой артикуляции
Смирнова Н.М. Образные схемы как когнитивная основа языковой артикуляции // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2024. Вып. 2. С. 16–23. EDN: AMLJRV
Received: 01.05.2024 Accepted: 24.05.2024
Когнитивные функции воображения являются предметом изучения не только философской теории познания. Их активно исследуют в рамках «нового эмпиризма» когнитивных наук, плодотворно взаимодействующих с философией в постижении тайн сознания и творчества. Но, в отличие от прозрений Канта о схематизирующей роли продуктивного воображения, в парадигме современной телесно-ориентированной эпистемологии воображение предстает не архетипом способности чистого разума к формообразованию, но структурным аспектом многомерного процесса функционирования нашего опыта. Телесные детерминанты разума неразрывно связаны в перцептивных и моторных паттернах нашего взаимодействия со средой и обеспечивают когнитивный базис нашего понимания и мышления. В настоящей статье я обращусь к данным когнитивной лингвистики и психологии развития, содружество которых проливает свет на то, каким образом формирование образной составляющей нашего мышле- ния воздействует на последующие процессы метафоризации и символической презентации в языке и мышлении.
1. Образные схемы в структуре телесно-ориентированной эпистемологии
Конвергентное взаимодействие телесноориентированной эпистемологии и когнитивной лингвистики позволяет пролить свет на важнейший вопрос современной теории познания: как наш телесновоплощенный разум, эволюционно сформированный как инструмент адаптации организма к его экологической нише, обрел способность порождать высокоуровневые абстракции и системы символической манифестации, далеко отстоящие от потребностей природной адаптации?
Напомню, что когнитивной презумпцией телесно-ориентированной эпистемологии является представление о том, что человеческие смыслы, процессы мышления и символической манифестации в культуре имеют глубокие неотрефлектированные корни в устойчивых образцах (когнитивных паттернах) чувственного восприятия и телесного движения. Каков же в свете подобных представлений когнитивный механизм порождения идеализированных объектов науки и идеальных предметностей культуры из изначальных данных перцептивного и моторного опыта?
Поиск достоверных данных для ответа на поставленный вопрос выводит за рамки (телесно-ориентированной) эпистемологии в область когнитивных наук, в частности, к когнитивной лингвистике, обращенной к изучению естественного языка — материнского лона процессов смыслообразования. Ее предметные пересечения с философской эпистемологией состоят в экспликации роли воображения и его схематизированных продуктов в процессах лингвистической референции, функциях фундаментального для когнитивной лингвистики понятия образных схем в осмыслении процессов созидания концептуальных метафор.
В когнитивной лингвистике зародилась теория, согласно которой необходимым посредствующим звеном в процессе перехода от пер-цепта к концепту является образная схема [Lakoff G., Johnson M., 1980; Talmy L., 2005, 2018; Gibbs R.W., 2005; Hampe B., 2005; Grady J.E., 2005; Szwedek A., 2019], стягиваю- щая разнородные данные различных органов чувств в единый когнитивный контур — эмпирический гештальт. В свете телесноориентированной эпистемологии подобный когнитивный контур мыслится ре-энактивацией следов сенсомоторного опыта с его последующим преобразованием в устойчивые обобщенные паттерны воображения. Образные схемы более абстрактны, чем обычные визуальные образы, и состоят из динамических пространственных паттернов, лежащих в основе пространственных отношений в реальных конкретных образах [Gibbs R.W., 2005]. Их можно трактовать и как переописание перцептивных событий, генерализирующих перцептивные сходства наличных концептуальных структур. Подобные схематизированные продукты воображения наделены статусом изначального когнитивного синтеза: локусом человеческого смысла, мышления и рационального суждения [Grady J.E., 2005].
Основатели когнитивной лингвистики Дж. Лакофф и специалист в области когнитивной семантики М. Джонсон развили понятие образных схем в теорию концептуальных метафор. Написанная в соавторстве книга «Метафоры, в которых мы живем» [Lakoff G., Johnson M., 1980] оказала огромное влияние не только на лингвистическое сообщество, но и на философские представления о познании в целом. Ее авторы забили последний гвоздь в крышку гроба классической (объективистской) теории значения, согласно которой пропозиции, если они верны, выражают свойства объективного мира, независимые от сознания. Дж. Лакофф и М. Джонсон констатировали непропозициональную природу концептов, провозгласив их аналоговыми продуктами сенсомоторного и социокультурного опыта, воплощенного в образных схемах. Проще говоря, высказывание ничего не значит, пока оно никем не понято, т.е. не выражает типичных образцов опыта природного и социокультурного взаимодействия. Таким образом, теория образных схем бросает вызов объективистской парадигме, в рамках которой понятия трактуются как символы, конституирующие пропозиции, указывающие на реальность, независимую от сознания. И если в естественных науках принципы неклассической научной рациональности изначально воплотились в квантовой механике, впервые теоретически артикулировавшей субъектное измерение теоретического знания, то образцом неклассической рациональности в когнитивной лингвистике можно считать антропологически центрированную теорию концептуальных метафор. Отцы-основатели когнитивной лингвистики артикулировали социальные и культурно-антропологические измерения в понимании лингвистического значения, положив неосознаваемые образные схемы в основу языковых метафор как своего рода телесную «подложку» из структур нашего опыта, образующих нечто вроде «когнитивного бессознательного» естественного языка.
Основатели теории концептуальных метафор исходят из презумпции телесноориентированной эпистемологии, что укорененность разума в телесных и социокультурных практиках конститутивна для понимания его природы и модусов функционирования. Способы человеческого понимания и содержание концептуальных метафор непосредственно зависят от опыта восприятий, движений и взаимодействий с физическими объектами и артефактами культуры. Образные схемы изначально осмыслены, т.е. наделены перцептивным смыслом 1 . Искра смысла вспыхивает еще до этапа языковой артикуляции, на стадии образного схватывания и последующего синтеза разнородных сенсомоторных данных в опытный гештальт.
Наши понятия и способы понимания основаны на телесной и социокультурной вопло-щенности и обусловлены типологически заданными паттернами воображения. Проще говоря, образные схемы мыслятся как когнитивный ин- струмент «возгонки» разрозненного материала чувственного опыта к первичным перцептивным обобщениям — эмпирическим гештальтам. Образные схемы образуют когнитивное основание языковой артикуляции как укорененные в энактивации паттернов сенсомоторного опыта, контуры которого улавливаются образными схемами. Подобное понимание наделяет образные схемы статусом конститутивного фактора обретения смысла телесного опыта2.
Образные схемы, хотя и уводят в «когнитивное бессознательное», всегда активированы и соответствуют абстрактному мышлению 3 . Наслаиваясь, а также сложным образом взаимодействуя друг с другом, образные схемы способны порождать последующие причудливые смысловые конфигурации, характер которых обусловлен языком и культурной традицией.
Однако образно-схематическая структура сама по себе не в состоянии схватить всех качеств, составляющих плоть и кровь нашего опыта. Анализ эвристического потенциала понятия образных схем свидетельствует, что ему присущи определенные когнитивные границы. Они очерчены отчасти свойственным «новому эмпиризму» натуралистическим детерминизмом, оставляющем в слепом пятне историкокультурные опосредования природных детер-минант4. Натуралистический детерминизм склонен игнорировать то, что на одном и том же природном основании может произрастать (расцветать, развиваться) бесчисленное множество миров культуры, многообразие которых обусловлено языком, традициями и историческим опытом. В реальности оба набора детерминирующих факторов (разделимых лишь в абстракции) сложным образом взаимодействуют друг с другом, и экспликация превалирующего из них каждый раз требует конкретного анализа отдельных случаев.
2. Онтогенетические основания теории образных схем
Теория образных схем — существенный шаг в продвижении к пониманию важнейших аспектов работы разума. Однако к числу ее недостатков следует отнести тот факт, что до недавнего времени она развивалась без надлежащего рассмотрения того, каковы онтогенетические истоки концептуального разума, как он развивается и изменяется в языке. Дабы уяснить происхождение образных схем как оснований языковой артикуляции, необходимо обратиться к данным девелопментальной психологии, раскрывающей основные принципы доречевого понимания мира в раннем детстве. Изучение доречевых оснований концептуального мышления имеет исключительное значение, поскольку последующие продукты ментального развития, возникающие на их когнитивной основе, будут неизбежно испытывать их влияние. Поэтому современные исследования когнитивных функций воображения сфокусированы на попытках соотнести теорию образных схем с изучением раннего концептуального развития.
Сегодня налицо значительный корпус исследований по истории формирования дорече-вых представлений [Gibbs R.W., 2005; Man-dler J.M., 1992, 2000, 2010; Mandler J.M., Cánovas C.P., 2014], которые в состоянии пролить свет и на дискуссионные вопросы теории образных схем, а также на их роль в познавательной деятельности человека. Они свидетельствуют о том, что представления Ж. Пиаже об исключительно сенсомоторном интеллекте детей в возрасте 6–7 месяцев не соответствуют современному уровню психологии развития. Именно в этом возрасте, как свидетельствуют данные эмпирических исследований [Man-dler J.M., 1992, 2000], закладывается фундамент концептуальной системы: постигаются общие сведения о живых существах, средствах манипуляции, окружающей среде, тогда как детализированные представления о них складываются значительно позднее и впоследствии обогащаются языком и культурой [Mandler J.M., Cánovas C.P., 2014]. И понимание того, что приходит раньше или позже, имеет огромную важность для анализа последующего конструирования смысла. Ведь если мы хотим понять телесную воплощенность в языке и мышлении, мы должны видеть их как неотъемлемую составляющую истории их развития.
Изучение истории развития ментальных навыков в раннем детстве дает основания предполагать, что большинство образных схем формируется у ребенка путем внимания к движению в пространстве совместно с некоторыми пространственными отношениями [Mandler J.M., 2010, p. 21]. Проще говоря, накопленный эмпирический материал позволяет сделать вывод, что вся схватываемая информация о мире в до-речевом возрасте является пространственной по природе 5 . Дети этого возраста более всего интересуются тем, как нечто движется и как участвует в событиях [Mandler J.M., 2010, p. 22]. Первые образные схемы формируются из присущих ребенку пространственных и двигательных примитивов, обеспечивая способ понимания и припоминания событий без отягощения его обременяющими деталями. Впоследствии они могут быть комбинируемы с внутренними чувствами, ощущением силы и другими элементами, создавая более сложные концептуальные структуры — схематические интеграции.
Основанная на пространственных примитивах (исходных концептуальных схватываниях) способность создавать образные схемы позволяет развивать ментальные симуляции пространственных событий. Затем развивается способность соединять одни разнородные виды опыта с другими и интегрировать их в новые целостные продукты первых схематических интеграций, постепенно инкорпорирующих все большее число непространственных элементов [Mandler J.M., Cánovas C.P., 2014].
Схематическая интеграция позволяет концептуализировать непространственный опыт, например, осмысленные аспекты организованных непространственных действий, а также опыт восприятия времени. Следовательно, образные схемы являются мощными инструментами уменьшения огромного многообразия восприятий и чувств до обобщенных типов событий, которые человеческий разум в любом возрасте может легко себе представить.
Анализ истории формирования когнитивных навыков побуждает к изучению того, как следы пространственного перемещения, привлекающие наибольшее внимание в раннем детстве, впоследствии представлены в языке. Существует множество языковых метафор, где объект, помещаемый в контейнер, превышает его по размерам («эта страна в моем сердце», «весь мир как на ладони» и т.п.). По мнению исследователей, это указывает на то, что образная схема контейнера, сохранившаяся во взрослом возрасте, аккумулирует следы детских образных схем, и что наши наиболее ранние концептуализации опыта контейнера более релевантны процессам метафоризации, чем последующие абстрактные генерализации, представленные в языке взрослого человека [Mandler J.M., Cánovas C.P., 2014].
Изучение истории ментального развития имеет выраженные эпистемологические импликации. Они свидетельствуют о том, что с амые ранние концепты носят более обобщенный характер: животное, средство передвижения, мебель, контейнер, а вовсе не собака, машина, кресло, посуда. И каждый раз новое животное или предмет понимается в свете концептов более высокого уровня. Именно так, по данным психологии развития, формируется иерархическая система концептов [Mandler J.M., 2010, p. 23]. Иными словами, изучение истории формирования когнитивных навыков бросает вызов классической теории абстракций, согласно которой общие понятия формируются путем отбора релевантных признаков у класса сходных объектов и взывает к более антропологически ориентированным представлениям о формировании абстрактных понятий в языке и мышлении.
3. Концептуализация времени и внутренних чувств
По имеющимся эмпирическим наработкам до-речевое схватывание информации берет свое начало с рождения (а, возможно, и в пренатальный период). Основания, ее структурирующие, формируются на ранних этапах жизни. И хотя впоследствии различные языки по-своему видоизменяют изначальную концептуальную систему, их вариации не столь значительны, как может показаться. Например, в корейском языке слова, обозначающие контейнер, всегда артикулируют его размеры (большой-маленький), тогда как в русском языке подобное указание на пространственные характеристики вместилища не является обязательным. Но само слово, означающее контейнер, есть в обоих языках. В одних языках глаголы более приспособлены к выражению пути, в других же — к способу передвижения. В большинстве индоевропейских языков движение по умолчанию репрезентируется как перемещение по горизонтальной траектории, в диалектах же китайского — по вертикальной. В первом случае движение чаще всего воображают/изображают как перемещение слева направо, тем не менее, сама образная схема движения как в случае горизонтального, так и вертикального перемещения неизменно присутствует.
Концептуализация времени осуществляется на основе сложившихся пространственных примитивов. Это означает, что изначальное схватывание времени требует использования пространственных метафор. Мы привычно прибегаем к ним в обыденной речи, говоря: длительное время, короткое время, тянуть время, близится час, обернуть время вспять и т.п., не задумываясь об их пространственной аналогии в повседневном мышлении. Однако философски значимо то, что базис понимания времени в пространственных терминах не является исключительно языковым: пространственная информация предшествует языковой артикуляции. Феноменальный опыт длительности онтогенетически первичен по отношению к концептуализации времени — невозможно игнорировать пространственную аналогию, когда говорят о длительности. Иными словами, концепт времени имеет пространственные корни и является спаренным с не анализируемым сенсор- ным опытом длительности. И хотя у детей опыт длительности не отчетлив, есть данные, что они имеют представление о ней.
До сих пор мы рассматривали образные схемы как эмерджентные свойства нашего телесновоплощенного взаимодействия с миром без учета роли внутренних чувств. Между тем, более широкий междисциплинарный взгляд на образные схемы взывает к рассмотрению их как аттракторов в сложной самоорганизующейся системе человеческих взаимоотношений не только с миром, но и с самим собой.
Ответить на вопрос о концептуализации внутренних чувств гораздо сложнее, поскольку эмоции представляют собой совсем другой чувственный опыт, трудно сопоставимый с опытом пространственного отношения. Связь между пространством и эмоциями не поддается воображению, в отличие от той, что рассмотрена выше для времени. Предположительно, именно по этой причине метафоры играют столь важную роль в выражении человеческих чувств, а роль внутренних чувств в мышлении так слабо изучена.
Определенные чувственные состояния ассоциируются с тем или иным событием, но одного лишь этого недостаточно для их концептуализации. Эмоции не имеют структуры — лишь различия в интенсивности, и их невозможно уподобить различиям в пространстве. Внутренние чувства не только не имеют привязки к пространственным примитивам, таким как путь и контакт, но их нелегко и отличить друг от друга иначе, как по шкале интенсивности. Трудно выявить общность между событиями, которые заставляют одинаково бояться или негодовать. Но требуются годы, чтобы найти подходящие слова для эмоциональных реакций, испытываемых в различных ситуациях.
Набор образных схем для выражения эмоционального опыта крайне ограничен: контейнер, движение из/в, появление и исчезновение — вот, пожалуй, и все. Поэтому для выражения эмоциональных состояний чаще всего прибегают к использованию языковых метафор, которым все же присущи те или иные пространственно-моторные коннотации (например, «вышел из себя», «изошел гневом», «расплылся в улыбке»). И, судя по всему, так происходит потому, что именно в таком виде эмоции явля- ются нам в образах раннего детства. Со временем дети учатся различать эмоции и оценивают их символические манифестации и метафорические выражения. И в их основе отнюдь не абстрактные концепты, которым нужны метафоры для привязки к чувственному опыту, но концептуальные метафоры, сформированные в раннем детстве. К 18 месяцам дети по выражению лица осознают, что кому-то не нравится то, что он ест, а к 3 годам они оказываются в состоянии отличать и выражать ощущения счастья, печали и гнева. И лишь к 4–5 годам они научаются различать большинство эмоций взрослого человека. Иными словами, концептуализация аффективного опыта очень сложна, и для своего выражения нуждается в многоцветье различных метафор. Не удивительно, что детям требуются годы, чтобы обучиться способам выражения эмоций в языке.
Заключение
Приведенный выше анализ раннего концептуального развития предполагает, что образные схемы могут быть изначальным источником телесных метафор в языке. Дети должны интерпретировать метафоры, которые описывают время и эмоции, и их понимание в раннем детстве почти всегда включает пространственную симуляцию событий.
Большинство «детских» концептуальных метафор структурированы пространственномоторными образными схемами в большей мере, чем непространственным материалом опыта, такими как, например, сила или интенсивность, которые для понимания сами по себе нуждаются в схематической интеграции с про-странственно-описываемыми событиями. В какой мере аналоговые расширения пространственной информации остаются значимыми, и какие последствия это имеет для формирования культурно-языкового опыта взрослого человека, остается предметом последующих исследований.
Список литературы Образные схемы как когнитивная основа языковой артикуляции
- Gibbs, R.W. (2005). The psychological status of image schemas. Hampe B., Grady J.E. (eds.) From perception to meaning: Image Schemas in Cognitive Linguistics. Berlin, DE: Mouton de Gruyter Publ., pp. 113–136. DOI: https://doi.org/10.1515/ 9783110197532.2.113
- Grady, J.E. (2005). Image schema and perception: Refining a defenition. Hampe B., Grady J.E. (eds.) From perception to meaning: Image Schemas in Cognitive Linguistics. Berlin, DE: Mouton de Gruyter Publ., pp. 35–57. DOI: https://doi.org/ 10.1515/9783110197532.1.35
- Hampe, B. (2005). Image schemas in cognitive linguistics: Introduction. Hampe B., Grady J.E. (eds.) From perception to meaning: Image Schemas in Cognitive Linguistics. Berlin, DE: Mouton de Gruyter Publ., pp. 1–14. DOI: https://doi.org/10.1515/ 9783110197532.0.1
- Lakoff, G. and Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 256 p. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/ 9780226470993.001.0001
- Mandler, J.M. (1992). The foundations of conceptual thought in infancy. Cognitive Development. Vol. 7, iss. 3, pp. 273–285. DOI: https://doi.org/10.1016/0885-2014(92)90016-k
- Mandler, J.M. (2000). Perceptual and conceptual processes in infancy. Journal of Cognition and Development. Vol. 1, iss. 1, pp. 3–36. DOI: https://doi.org/10.1207/s15327647jcd0101n_2
- Mandler, J.M. (2010). The spatial foundations of the conceptual system. Language and Cognition. Vol. 2, iss. 1, pp. 21–44. DOI: https://doi.org/ 10.1515/langcog.2010.002
- Mandler, J.M. and Cánovas, C.P. (2014). On defining image schemas. Language and Cognition. Vol. 6, iss. 4, pp. 510–532. DOI: https://doi.org/10.1017/langcog.2014.14
- Müller, U. and Overton, W.F. (1998). How to grow a baby: A reevaluation of image-schema and Piagetian action approaches to representation. Human Development. Vol. 41, iss. 2, pp. 71–111. DOI: https://doi.org/10.1159/000022570
- Szwedek, A. (2019). The image schema: A definition. Styles of Communication. Vol. 11, no. 1, pp. 7–28.
- Talmy, L. (2005). The fundamental system of spatial schemas in language. Hampe B., Grady J.E. (eds.) From perception to meaning: Image Schemas in Cognitive Linguistics. Berlin, DE: Mouton de Gruyter Publ., pp. 199–234. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110197532.3.199
- Talmy, L. (2018). Ten lectures on cognitive semantics. Leiden, NL; Boston, MA: Brill Publ., 474 p. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004349575