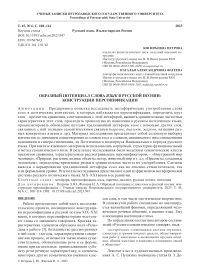Образный потенциал слова язык в русской поэзии: конструкции персонификации
Автор: Петрова З.Ю., Фатеева Н.А.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Третьи Фортунатовские чтения в Карелии
Статья в выпуске: 6 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Предпринята попытка исследовать метафорические употребления слова язык в поэтических контекстах, в которых наблюдается персонификация, определить круг слов - предметов сравнения, сочетающихся с этой метафорой, выявить сравнительные частотные характеристики этих слов, проследить хронологию их появления в русском поэтическом языке, проанализировать обновление поэтами традиционной метафоры язык с помощью других слов, связанных с ней тесными семантическими связями (наречие, диалект, жаргон, названия разных конкретных языков и др.). Материал исследования представляет собой сплошную выборку контекстов со значением олицетворения со словом язык и словами, связанными с ним отношениями синонимии и гиперо-гипонимии, из Поэтического подкорпуса Национального корпуса русского языка. При анализе языкового материала использовались корпусный, структурно-функциональный и метод семантического поля. В результате исследования были выделены семантические классы предметов сравнения, характеризуемые рассматриваемым персонификатором, - «Внутренний мир человека», «Природа: растения, водные объекты, ветер, животный мир и т. д.», «Предметы, созданные человеком», определены временные рамки и сравнительная частота их употребления. Сделаны выводы о варьировании традиционной метафоры язык как на лексико-семантическом, так и на формальном уровне. Результаты исследования представляют один из фрагментов метафорической системы русского поэтического языка XIX-XXI веков в ее развитии.
Метафора, персонификация, язык, наречие, диалект, русская поэзия, эволюция
Короткий адрес: https://sciup.org/147241119
IDR: 147241119 | УДК: 811.161.1:81'42 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.947
Текст научной статьи Образный потенциал слова язык в русской поэзии: конструкции персонификации
Работа представляет собой часть исследовательского проекта, посвященного конструкциям персонификации в русской поэзии XIX–XXI веков, в которых персонификаторами выступают слова со значением говорения. Краткая характеристика элементов образного поля «Речь» дана в работе [3], большинство рассмотренных в ней слов – глаголы, характеризующие говорение как процесс, отмечаются также имена существительные, обозначающие речь и ее формы, имена прилагательные, приписывающие субъекту речи речевую характеристику, и элементы некоторых других семантически смежных клас
сов слов, в том числе «поэтическое творчество». В упомянутой работе специально не анализируется важнейший феномен, определяющий человеческое речевое общение, а именно язык. Ему и посвящена настоящая статья.
По определению коллектива авторов-составителей «Русского семантического словаря», язык –
«исторически сложившаяся система звуковых, словесных и грамматических средств, объективирующая работу мышления и являющаяся орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе»1.
Лексеме язык в художественных произведениях А. С. Пушкина посвящена статья В. З. Де- мьянкова [1]. В этой работе дана общая классификация значений слова язык, но при этом язык в ней в основном рассматривается с точки зрения человеческого субъекта, то есть в неметафорическом плане, хотя по отношению к человеку анализируются и метафорические словосочетания язык любви, страстей, истинной страсти, мучительных страстей, страстей чужих. Частично в метафорическом смысле слово язык рассматривается в другой статье В. З. Демьянкова «Семантические роли и образы языка» [2], однако в ней специально не подвергаются анализу контексты персонификации.
Задачи нашей работы – проанализировать в поэтических контекстах переносные употребления слова язык , в прямом значении описывающего лиц, для характеристики природных феноменов, предметов и внутреннего мира человека, очертить круг реалий, к которым применяется эта персонифицирующая метафора, с указанием сравнительной частоты их употребления, проследить появление в русской поэзии в качестве опорных слов-образов в конструкциях персонификации названий разных языков и диалектов.
Исследование проводится на материале сплошной выборки контекстов со значением олицетворения с указанными словами из Поэтического подкорпуса Национального корпуса русского языка2. Полученная выборка включает более 200 контекстов из стихотворных произведений с начала XIX века (несколько контекстов взяты из произведений конца XVIII века) до начала XXI века. Такое исследование проводится впервые.
АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА
Самые ранние контексты непрямых употреблений слова язык в поэзии наделяют языком сущности внутреннего мира человека – сердце, душу, различные чувства. Любящие сердца говорят друг с другом на понятном только им языке:
«Хотя при людях нам нельзя еще словами Люблю друг другу говорить; Но страстными сердцами Мы будем всякий миг люблю, люблю твердить (Другим язык сей непонятен; Но голос сердца сердцу внятен)» (Н. Карамзин 1796), языком сердца владеют поэты:
«Вот тот летит, что строя лиру, Языком сердца говорил, И, проповедуя мир миру, Себя всех счастьем веселил» (Г. Державин 1804), «Здесь сердце говорит, но истина нема; Поэты делают язык его нам внятным – И сердцу одному он должен быть приятным» (Н. Карамзин 1798), духовная близость позволяет понять язык сердца другого: «Он читает В младых сердцах. Он их проник; Один душой он понимает Неуловимый их язык» (А. Майков 1856).
Сходным образом употребляются словосочетания язык душ , язык души :
«Что вижу?.. очи их, как огнь во тьме, сверкают; Они в безмолвии друг на друга взирают… А! се язык их душ, предвестник тех часов, Когда должна потечь тиранов наших кровь!» (Н. Гнедич 1805), « Язык души красноречивый, Восторга пламенный полет, Стихов и мыслей переливы И силу их, – она поймет» (Н. Языков 1829).
Эти употребления слова язык характерны в основном для поэзии конца XVIII – первой половины XIX века, в более поздний период они за редким исключением почти не встречаются, ср. «Из одной мы с ним пили чаши. / И когда наши губы встречались – / узнавали друг друга сердца наши / и одним языком перекликались» (М. Шкапская 1913–1917).
Та же тенденция к снижению частоты употребления со второй половины XIX века характеризует и сочетания слова язык с обозначениями различных эмоциональных состояний: чувства , предчувствия , любовь , страсти , счастье и др. Большая часть соответствующих контекстов относится к первой половине XIX века:
« Язык предчувствия небесный С душой не тщетно говорит. Душа невидимое зрит!» (В. Жуковский 1819), «Мой друг! слова твои напрасны, Не лгут мне чувства – их язык Я понимать давно привык» (Д. Веневитинов 1827), «Страстей безумных и мятежных Как упоителен язык !» (А. Пушкин 1828), «Когда б он знал… в душе его убитой Любви бы вновь язык заговорил, И юности восторг полузабытый Его бы вновь согрел и оживил!» (Е. Ростопчина 1830).
Кроме сердца, души и чувств, языком наделяется в поэзии и разум, но гораздо реже: «На хладный свой язык мне разум переводит, Что втайне чувство создает; Оно растет, оно восходит, А он твердит: оно пройдет!» (В. Бенедиктов 1837).
В тот же период, в первой половине XIX века, язык сочетается со словами очи и взоры :
«А ты, сокрытая любовь души моей, Одна моим мечтам присущная подруга, Ты, разгадавшая немой язык очей Досель таившегося друга!» (С. Нечаев 1824), «Блестя, виясь на звуке плясовом, Ты на меня порой метала взоры, И там еще, любовным языком, Они вели с моими разговоры…» (Е. Розен 1831), несколько позже – со словом глаза: «Молчит под ревнивою мглою Язык всечарующих глаз» (Н. Щербина 1852).
Все подобные сочетания слова язык уходят из употребления со второй половины XIX века, чего нельзя сказать о контекстах, в которых язык приписывается природным феноменам и созданным человеком предметам. Эти классы персонифицирующих метафор проходят через весь период существования поэтического языка, пополняясь в ХХ веке новыми элемента- ми – обозначениями разных языков, жаргонов и диалектов.
В первую очередь надо отметить метафору язык , характеризующую родовое обозначение природа . Наиболее ярко она представлена в поэтической декларации Ф. Тютчева, отражающей натурфилософские идеи: «Не то, что мните вы, природа: Не слепок, не бездушный лик – В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык …» (1836). Подобное увлечение шеллингианскими идеями испытали и другие русские романтики, в частности С. Шевырев и Е. Баратынский. Контексты, в которых язык относится к природе, многочисленны, встречаются на протяжении всего периода развития русской поэзии:
«Пусть гений твой природу вопрошает; И если ты достойный неофит, Она к тебе заговорит Своим простым, но черни непонятным, Красноречивейшим для сердца языком » (Н. Гнедич 1824), «И для меня язык природы Обилен и красноречив!..» (А. Подолинский 1827), «Когда безмолвствуешь, природа, И дремлет шумный твой язык , Тогда душе моей свобода, Я слышу в ней призывный клик» (С. Шевырев 1830), «Покуда природу любил он [человек], она Любовью ему отвечала: О нем дружелюбной заботы полна, Язык для него обретала» (Е. Баратынский 1839–1841), «Пойми живой язык природы – И скажешь ты: прекрасен мир!» (И. Никитин 1853), «Поэт с природою не дружен, Он к подчиненью не привык, Ему невнятен и ненужен Природы мертвенный язык » (А. Тиняков 1909), «На том малопонятном языке , Которым изъясняется природа, Ты, словно незаконченная ода, В суровом высечен известняке» (Б. Лившиц 1936), «Ожившее дитя палеолита, Смятенное среди иного быта, Поскольку вспомнило то, что забыто – Язык природы и небесных сфер» (Д. Самойлов 1984–1986).
И. Бродский варьирует метафору язык (природы) синонимом слова язык – наречие , уподобляя шум дождя шепоту природы на местном наречии:
«И постоянно накрапывает, точно природа мозгу / хочет что-то сообщить; но, чтоб не портить крови, / шепчет на местном наречьи . А ежели это – Морзе, / кто его расшифрует, если не шифер кровли?» (1994).
Среди отдельных природных реалий и явлений язык в поэтических контекстах больше всего свойствен растениям – деревьям, лесу, листьям, ветвям (при этом чаще всего реализуется звуковой аспект языка):
«Шуми, шуми, зеленый лес! <...> Я с детства понимать привык Твое молчание немое И твой таинственный язык Как что-то близкое, родное» (И. Никитин 1849), «И громко поверять привык Он Богу все грехи и думы; И листьев шелестели шумы, – Ответный, явственный язык » (Е. Кузьмина-Караваева 1916), «Отговорила роща золотая Березовым, веселым языком » (С. Есенин 1924), «Две осины в мелком дождике Будто плачутся навзрыд: Две старушки, им не спится, Зябнут у глухой водицы И лепечут языком Непонятным и тревожным – Но расслышать невозможно: Что хотят?» (И. Юрков 1926),
«Ели говорят На языке , понятном только снегу» (В. Лу-говской 1943–1956), «Для меня комаровские сосны На своих языках говорят» (А. Ахматова 1964), «Вот было что со мной, что было не со мною: / черемуха всю ночь в горячке и бреду. / Сказала я стихам, что я от них сокрою / больной ее язык , пророчащий беду» (Б. Ахмадулина 1983).
Языком могут обладать также цветы, травы (здесь уже язык не имеет звукового воплощения):
«Дремлют цветы в ветерке благодатном, Сны свои мне говорят и мечтанья На языке ароматов понятном – Речью одною из тысяч речей мирозданья» (Н. Щербина 1852), «Любит – нет – не любит – любит. – И, оборванный кругом, “Да” сказал цветок ей темным, Сердцу внятным языком » (Я. Полонский 1856), «Пускай цветок последним лепестком Мне “нет” твердит на языке немом» (М. Кузмин 1903), «Белый мой цветок, таинственно-прекрасный, Из моей земли, из черной ты возник, На меня глядишь ты, нежный и безгласный, И понятен мне безмолвный твой язык » (Ф. Сологуб 1905), «Очаровательно-приветлив, Зачем ты прислан мне, цветок? <...> Твой аромат – язык немой?» (Б. Лившиц 1934), «Оставайся полынью и злаком, В мире фауны каждый неправ, И пиши с отрицательным знаком Языком вымирающих трав» (А. Цветков 1978)
и даже грибы: «И шепчутся в ночных туманах / грибы на разных языках » (Н. Байтов 1993). Из других природных феноменов языком обладают вода, ветер, гроза, в соответствующих поэтических контекстах реализуется звуковой аспект языка, часто присутствуют и слова, обозначающие речь и другие звуки, также обладающие семантикой персонификации: сказать , заговорить , сговориться , вторить , твердить , сетовать , петь , вопить , выть , голос и др., например:
– водные объекты – море:
«[море] Вал за валом ты торопишь, Стон за стоном издаешь, Но о чем и что ты вопишь, Уж никак не разберешь. <…> В этих воплях и заклятьях Есть таинственный язык » (П. Вяземский 1844), «Привет тебе, вечное море! Родным языком мне шумят твои воды» (М. Михайлов 1855–1862), «И только ветер здесь неукротим: Повсюду рыщет да чего-то ищет… Лишь море может сговориться с ним На языке глубоковерстой тьмищи» (М. Петровых 1931–1932), «Морская пена – суффиксы, предлоги Того утраченного языка , Что был распространен, когда века, Теснясь в своей космической берлоге, Еще готовились существовать» (С. Липкин 1978),
– река:
«Слышишь ли эти немолчные звуки серебряной влаги [реки]? Что она хочет сказать? не разгула ли просит и воли? Иль на своем языке непонятном и годы и веки Вторит свободно торжественный гимн вездесущему богу?» (И. Никитин 1854),
– волны:
«Шомполом твоей улыбки Вбит в меня тот миг: Флагов золотые рыбки, Волн густой язык » (Г. Оболдуев 1938),
– вода:
«И когда Он в воду ноги опустил, вода Заговорила с ним, не понимая, Что он не знает языка ее» (А. Тарковский 1954), «И оказался отчим домом Тысячезвездный небосвод И удивительно знакомым Язык листвы и здешних вод» (А. Штейнберг 1963–1967),
– ветер:
«Слышу стон твой, ветер бурный! <…> Пусть леса, холмы и долы Огласит твой шумный зык! Внятны мне твои глаголы, Мне понятен твой язык » (В. Кюхельбекер 1829), «О чем ты воешь, ветр ночной? О чем так сетуешь безумно? Что значит странный голос твой, То глухо жалобный, то шумно? Понятным сердцу языком Твердишь о непонятной муке – И роешь и взрываешь в нем Порой неистовые звуки!..» (Ф. Тютчев 1830), «Где черный ветер, как налетчик, Поет на языке блатном, Проходит путевой обходчик, Во всей степи один с огнем» (А. Тарковский 1958),
– гроза и гром:
«И языками неземными, Волнуя реки и леса, В ночи не совещалась с ними В беседе дружеской гроза!» (Ф. Тютчев 1836), «Откуда взявшейся грозы Предвестьем воздух переполнен – Ее изменчивый язык В снопах разоруженных молний» (Г. Петников 1916), «Небеса не бессловесны – Издавать способны крик, Но никак не сложит песни Громовой небес язык » (В. Шаламов 1937–1956).
Другие природные реалии, которые обладают языком, звуков не производят, в таких контекстах реализуется та часть семантики слова язык , которая имеет отношение к обмену мыслями (передаче информации, не имеющей звукового воплощения) и пониманию. Это такие реалии, как:
– свет и огонь:
«Я вновь теперь живу! и как отраден мне И сон полей в тиши безлюдной, И этих ярких звезд, горящих в вышине, Язык торжественный и чудный!» (И. Никитин 1855), «Забегают пред тройкой далече, И ведут со мной пошептом речи На глухом, да понятном и жгучем своем языке » (Л. Мей 1861), «А был рассвет! Я помню, вспоминаю Язык любви, цветов, ночных лучей» (А. Фет 1878), «Здесь свет с небес раздвоен и лукав. / С ним говорят на разных языках / в пустынных храмах восковые свечи» (С. Кекова 1995),
– камни:
«Чтобы некогда нашим потомкам рассказали немым языком Мусор вечности, камни живые, об отхлынувшем вале морском» (Амари 1920), « Язык булыжника мне голубя понятней, Здесь камни – голуби, дома – как голубятни» (О. Мандельштам 1923), «Метеорит, метеорит. Откуда он родом – не говорит. <...> На черный кусок я гляжу молчаливо. Неужто от взрыва, неужто от взрыва?.. Гляжу, и про многое метеорит / на темном своем языке говорит» (С. Щипачев 1965),
– земля:
«Но чем ты уловишь созвучья Лужаек, где травы и сучья, Все выгибы, все переливы Беззвучной земли молчаливой? Язык ее смутен, как пятна, Уста ее жаркие немы; Лишь чуткому телу понятны И песни ее, и поэмы» (Д. Андреев 1950).
Отдельную большую группу контекстов составляют сочетания слова язык с обозначениями животных, в первую очередь птиц. Здесь надо отметить, что сочетание язык животных в современной биологической науке уже, строго говоря, не является метафорическим (см., например, [4]), язык в этом сочетании определяется как «совокупность средств общения между животными», куда входит несколько систем общения: язык телодвижений и поз, язык запахов, звуковой язык. В поэзии, в отличие от науки, конечно, дело обстоит иначе, поэты воспринимают язык птиц и других животных как часть языка природы, о котором говорилось выше. Если способность разговаривать – сочетания слов говорить, говор, болтать, речь и пр. с обозначениями птиц – фиксируется в русском поэтическом языке с самого начала анализируемого периода, то слово язык в таких сочетаниях появляется позже, лишь в начале ХХ века, и продолжает употребляться и в дальнейшем:
«Им ли поверить, что в синий Синий, Дымный день у озера, роняя перья, как белые капли, Лебедь не по-лебяжьи твердит о любви лебедине, А на чужом языке (стрекозы или цапли)» (В. Шершеневич 1918), «А соловей полночный тает На птичьем языке своем» (К. Вагинов 1926), «В руке сорока говорит / каким-то странным языком » (С. Петров 1933), «птицы говорили интересно / на своем забавном языке » (Б. Корнилов 1935), «Все соловьи поймут друг друга – / у них везде один язык » (Е. Евтушенко 1960), «Морская ночь!.. То цапли рощ от сил / поют священных языком целебным» (В. Соснора 1983).
Реже, чем птицам, поэты приписывают язык насекомым:
«Кузнечик, маленький работник мирозданья, Все трудится, поет, не требуя вниманья, – Один, на непонятном языке …» (Н. Заболоцкий 1937)
и зверям:
«все звери покидают норы / минорные заводят разговоры / и на своем животном языке / ругают Бога сидя на песке» (А. Введенский 1929).
В подобных контекстах встречается и синоним слова язык – наречье :
«Я спросил у пса: Что знаешь? Он ответил: Гав-гав-гав! У кота спросил я тоже – Он ответил: Мяу-мяв! На своем наречьи тайном Отвечало мне зверье» (Е. Кропивницкий 1973).
Все контексты с семантическим инвариантом ‘язык животных’ характеризуются семантикой ‘звук’, в нашем материале встретился только один контекст, в котором реализуется смысл не «звукового языка», а «языка телодвижений»:
«Я – пастух; мои хоромы – В мягкой зелени поля. Говорят со мной коровы На кивливом языке . Духовитые дубровы Кличут ветками к реке» (С. Есенин 1914).
Отсутствие семы ‘звук’ и актуализация семы ‘понимание, передача информации’ наблюдаются в контексте, в котором язык ( наречие ) приписывается такому абсолютно немому животному, как рыба:
«Слышишь, как, ломая лед, / ставший желтым, прелым, скучным, / щука, пасть раскрыв, поет / на наречии беззвучном ?» (С. Петров 1933).
Языком в поэтических текстах могут обладать и предметы. Это, в первую очередь, предметы, издающие характерные звуки, например:
– часы:
«Часов однообразный бой, Томительная ночи повесть! Язык для всех равно чужой И внятный каждому, как совесть!» (Ф. Тютчев 1829), «Я не ропщу и не страдаю, Я к одиночеству привык: Часы, часы, я понимаю Ваш утомительный язык » (Д. Мережковский 1895), «И часы надо мною смеются На дотошном наречье своем» (А. Тарковский 1946),
– кастаньеты:
«Чтоб неведомый северу танец, Крик Handa и язык кастаньет Понял только влюбленный испанец Или видевший бога поэт» (А. Блок 1912),
– работающие машины, механизмы:
«Каждодневно быть в заводе, быть в заводе – наслажденье… Понимать язык железный, слушать Тайны Откровенья» (И. Садофьев 1917),
– оружие и издаваемые им звуки:
«И старики заговорили Ружейных залпов языком И строи дымом очертили, Как заколдованным кольцом…» (А. Лозина-Лозинский 1912), «И, внемля выстрелов язык , Зажегшись волею стальною, В моих руках очнулся штык И повелел: “Иди за мною!” (Н. Минский 1920), «Мы мчались, мечтая Постичь поскорей Грамматику боя – Язык батарей» (М. Светлов 1926), «Но есть иной язык – язык железных птиц, Наречье танков, говор пулеметов, – Враг их поймет, явившись у границ, Чтоб посягнуть на мирный труд народов» (Н. Заболоцкий 1937).
Иногда предметы говорят не на своем собственном языке, а заимствуют язык у природных явлений:
«Орудия, как в Тройцын день, все в зелени стоят И ждут приказа – заговорить на молний языке И грома » (Г. Петников 1942), «И поезд вдоль ночи вагонную осень ведет / и мерно шумит на родном языке океана » (И. Жданов 1978–1991).
Может актуализироваться смысл ‘письменная форма языка’:
«И башня, как огромный палец На титанической руке, Писала что-то в небе темном На незнакомом языке ! Не башня двигалась, но – тучи… И небо, на оси вертясь, Принявши буквы, уносило Их неразгаданную связь…» (К. Случевский 1880).
Метафору язык варьируют тесно связанные с ней семантически слова, в разное время фиксируемые в поэтическом языке, но позже слова язык , уже в ХХ веке. Таким образом поэты обновляют традиционный образ. Во-первых, это синоним слова язык – наречие ( наречье ), отдельные примеры употребления которого уже приводились выше, ср. еще:
«Лукавый тополь, нас уча, Шумел на смешанном наречьи » (Н. Тихонов 1924), «Бежит река текучею дорогой, на водяном наречьи лжет» (С. Петров 1934), «Здесь птицы, как малые дети, Смотрели в глаза человечьи И пели мне песню о лете На птичьем блаженном наречье » (Н. Заболоцкий 1947), «Двуречьем, Окою и Волгой, бродила, искала, Леса говорили ей, небо сверкало Звездным наречьем » (Д. Андреев 1955), «Вблизи небытия ответствует черемухи наречье : – Ступай себе. Я не люблю тебя» (Б. Ахмадулина 1985).
Во-вторых, это названия разновидностей языка – диалект:
«А внизу – цветы, долины На цветочном диалекте С ним доверчиво шептались» (Н. Агнивцев 1915–1921), «листва, бесчисленная, как души / живших до нас на земле, лопочет / нечто на диалекте почек, / как языками, чей рваный почерк / – кляксы, клинопись лунных пятен – / ни тебе, ни стене невнятен» (И. Бродский 1981),
– местный язык:
«Арык на местном языке , Сегодня пущенный, лепечет» (А. Ахматова 1943),
– жаргон:
«Море шепчет соленым жаргоном Про прибрежную, южную лень» (В. Шершеневич 1925),
– блатной язык:
«Где черный ветер, как налетчик, Поет на языке блатном , Проходит путевой обходчик, Во всей степи один с огнем» (А. Тарковский 1958),
– мат (каламбурно-цитатное употребление):
« Буря небо кроет матом » (Ю. Мориц 2008).
Встречается и жаргонное слово феня ( по фене ботать ):
«А после с красною повязкой / кидаться будешь ты в ночи / туда, где с вкрадчивой повадкой / по фене бота-ют ножи » (Е. Евтушенко 1965).
Следующую группу слов, развивающих и обновляющих метафору язык , составляют названия конкретных языков – латынь, греческий:
«Он Цицерона на перине Читает, отходя ко сну: Так птицы на своей латыни Молились Богу в старину» (О. Мандельштам 1914–1915), «Зубровкой сумрак бы закапал, Укропу к супу б накрошил, Бокалы – грохотом вокабул, Латынью ливня оглушил» (Б. Пастернак 1931), «Мне в город надобно, – но втуне, / за краем книги золотым, / вникаю в лиственной латуни / непостижимую латынь» (Б. Ахмадулина 1996), «Щебечут птицы в облаках то на латыни, то на греческом, / и речь на разных языках в богатом городе купеческом / напоминает пти- чий гам, и с легким шелестом уносится / все к тем же белым облакам людской молвы разноголосица» (С. Кекова 1999) (ср. эллинская речь: Но отвернемся, читатель мой. Ветер и шепот сухой. В связках сушеный чеснок изъясняется эллинской речью» (В. Кривулин 1973)),
– французский (с оттенком латыни):
«И пушка ответит с кремлевской твердыни На чисто французском , с оттенком латыни ; И пушка расскажет о многом таком, Чего не поведать иным языком» (М. Тарловский 1926),
– английский:
«Всё ты высчитал и взвесил, / но одна загвоздка – в том, / что по-прежнему невесел / хрип вороний под дождём. <…> Как там сказано в балладе? / Nevermore – и боль в виске. / Не кричите, бога ради, / на английском языке …» (Б. Кенжеев 1975),
– эсперанто:
«Полночные пространства голосят / на железнодорожном эсперанто » (Г. Семенов 1970–1979).
Поэту слышатся и определенные слова в речи птиц «на английском языке» – английские имена:
«Я опустил окно в автомобиле. Был зимний день. И я услышал вдруг Между ветвями: « Билли ! Вилли ! Билли !» – Попискивало несколько пичуг. Они о чем-то спорили по-птичьи, Но на своем английском языке » (И. Елагин 1939–1986),
– nevermore – в вышеприведенном примере Б. Кенжеева, включающем аллюзию на стихотворение Э. По «Ворон».
В конструкциях олицетворения часто встречаются наречия, образованные от названий языков – по-русски:
«По-русски горлинка урчит, По-русски дятел в ствол стучит, По-русски старый парк молчит, И пес по-русски лает» (С. Черный 1924), «Родная речь звучит в Крыму И пенье птиц по-русски будто, Он слышит (кажется ему) Раскат московского салюта» (М. Светлов 1944), «Но пусть вам чудится, что за прудом Команда ведется уже не по-русски, – Здесь, около вас, По-прежнему по-русски разговаривают хлеба, Умоляя о жатве, По-прежнему, как в русской деревенской кузне, Темно, и дымно, и красно в закатном небе» (С. Липкин 1961– 1963), «Ворон-монгол произносит гортанно глаголы, / зная по-русски одно только слово: зима» (С. Кекова 1980– 1999), «лазуритовый ветер кричит по-русски / и песок взмывает с живого дна» (Б. Кенжеев 1999), по-французски:
«Две веселых трясогузки, Непоседы, ненасытки, Объяснялись по-французски Одобряя вкус улитки» (А. Несмелов 1930), по-немецки:
«Воробьи по-немецки кричат: “Цурюк!” – / и находками мелкими делятся» (С. Кирсанов 1934), «Блестит кольчугой голавель стальной. Деревья что-то шепчут по-немецки» (И. Бродский 1964), по-польски:
«Слышим, как волны, высоки и скользки, Шепчутся между собою по-польски !» (И. Елагин 1953–1963), «День пролетел. Пчела / шепчет по-польски “збродня”» (И. Бродский 1987).
Отметим, что в этот ряд названий «человеческих» языков включаются и обозначения языков с конкретизирующими определениями, прямо соотносящих язык с говорящим на нем, ср. в вышеприведенных примерах: цветочный диалект цветов, березовый язык рощи, животный язык зверей, птичий язык соловья, птичье наречье птиц, или же указывающих на особенности языка, соответствующие говорящей реалии: неземные языки грозы, небесный язык звезд: «Над вечности высотою, / рассыпанная по безднам, / звезда говорит со звездою / на языке небесном» (Н. Асеев 1958–1959), серебристый язык озер: «На серебристом языке Перекликалися озера» (Н. Клюев 1929–1934), соленый жаргон моря, зеленый язык кузнечика:
«Кузнечик на лугу стрекочет В своей защитной плащ-палатке, Не то кует, не то пророчит, Не то свой луг разрезать хочет На трехвершковые площадки, Не то он лугового бога На языке зеленом просит: – Дай мне пожить еще немного, Пока травы коса не косит!» (А. Тарковский 1935–1946), старобулыжный язык города: «Город разговаривал со мною / на старобулыжном языке» (Г. Семенов (1979–1981).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, в результате корпусного анализа употребления слова язык в конструкциях персонификации в поэтических контекстах выявлен круг реалий, в сочетании с которыми употребляется это слово, и одновременно эволюция этого круга. Если в начальный период развития русского поэтического языка наиболее частотными были сочетания слова язык с лексемами душа , сердце , обозначениями чувств, то в более поздний период такие сочетания практически исчезают. Природные же реалии и различные предметы в поэзии обладают языком на протяжении всего исследуемого периода. При этом кроме слова язык для обозначения его функций в ХХ веке фиксируется синоним наречие и обозначения различных языков и диалектов. Исследуемый семантический инвариант варьируется и формально, с помощью наречий, образованных от названий языков. В качестве особенности поэтического языка отмечены сочетания слова язык с конкретизирующими определениями, прямо соотносящими язык с «говорящей» на нем реалией или же указывающих на особенности языка, соответствующие этой реалии.
Список литературы Образный потенциал слова язык в русской поэзии: конструкции персонификации
- Демьянков В. З. Лексема "язык" в художественных произведениях А С. Пушкина // A. S. Puškin und die kulturelle Identität Rußlands. Hg. Gerhard Ressel. Frankfurt am Main etc.: Peter Lang, 2001. S. 109-131. EDN: RVMGNF
- Демьянков В. З. Семантические роли и образы языка // Язык о языке / Под общ. рук. и ред. Н. Д. Арутюновой. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 193-270. EDN: SFTFNJ
- Петрова З. Ю., Северская О. И. Говорящий мир в русской поэзии XVIII-XX вв. Предметы сравнения. Окружающий мир. Время // Верхневолжский филологический вестник. 2018. № 1. С. 78-90. EDN: YTRNXW
- Резникова Ж. И. Анализ современных методологических подходов к изучению языка животных // Вестник Новосибирского государственного университа. Серия: Психология. 2007. Т. 1, вып. 2. С. 3-22.