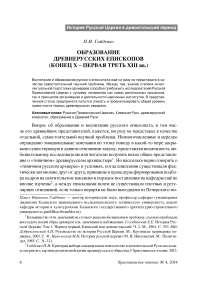Образование древнерусских епископов (конец X - первая треть XIII вв.)
Автор: Гайденко Павел Иванович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История Русской Церкви в домонгольский период
Статья в выпуске: 4 (57), 2014 года.
Бесплатный доступ
Воспитание и образование русского епископата ещё ни разу не представало в качестве самостоятельной научной проблемы. Между тем, знание степени интеллектуальной подготовки архиереев способно приблизить исследователей Русской Православной Церкви к лучшему пониманию как самих религиозных процессов, так и принципов организации и деятельности церковных институтов. В представленной статье предпринята попытка описать и проанализировать общий уровень грамотности первых древнерусских иерархов.
Русская православная церковь, киевская русь, древнерусский епископат, образование в древней руси
Короткий адрес: https://sciup.org/140190040
IDR: 140190040
Текст научной статьи Образование древнерусских епископов (конец X - первая треть XIII вв.)
настыря3, или этого не требовали вопросы банального выживания во время возникновения и разрастания внутрицерковных конфликтов?4 Поэтому проблемы образования, воспитания и происхождения русского епископата по-прежнему нуждаются в детальном изучении.
Не вызывает сомнения, что архиерей как глава вверенного ему округа и лицо, возглавляющее религиозную жизнь своей паствы (не только нравственную, богослужебную, но административно-каноническую), должен был соответствовать самым высоким требованиям. Большая часть ожидаемых от него качеств была весьма подробно изложена апостолом Павлом5. Хочется заметить, что гра- мотность и образованность не значились среди непременных достоинств соискателя епископской кафедры. Скорее наоборот, образ рыбаря-апостола оказывался сопряжённым с образом «некнижного человека», при котором религиозное сознание нередко предпочитало видеть пастыря или архипастыря человеком, не обременённым книжной мирской мудростью6.
Однако при том, что требования к моральным качествам иерархов в течение столетий в целом не претерпевали каких-либо существенных изменений, ожидания от «внешней» стороны жизни архипастырей в том числе в области образования изменялись. Со временем, во всяком случае, уже на исходе IV – в начале V столетий одним из качеств, которым должен был обладать архиерей, уже значилась грамотность, потребность в которой объяснялась возникновением развитой книжной культуры богослужения и нуждами формировавшегося богословия. Что касается требований к уровню образования епископата, то данная проблема была всецело обусловлена историко-культурными реалиями общества, из которого происходил пастырь, и в котором он совершал своё служение. Впрочем, даже в Византии, являвшей собой пример общества и государства высочайших культурных достижений Средневековья, проблема образованности епископов оставалась открытой и далёкой от разрешения на протяжении всей истории империи7. Естественно, что в условиях Руси, находившейся на самой границе, а лучше сказать «на задворках» христианского мира и того, что можно было назвать в тот период «европейской цивилизацией», обозначенный вопрос должен был звучать особенно остро.
О состоянии интеллектуальной подготовки русских святителей можно судить по высказываниям современников, и таковые характеристики грамотности и интеллектуальных способностей архипастырей в итоге оказались неоднозначными. Только немногие из древнерусских иерархов отмечались похвалами за свою образованность или то, что принимали за таковую. Из числа митрополитов к ним относятся Иларион, Георгий, Иоанн II, Никифор и Климент Смолятич. Некоторые из них названы людьми «книжными»8, а при характеристике Иоанна и Климента были применены формулы «не быс(ть) преже в Руси. ни по немъ не боудеть такии» и «такъ якоже в Роускои земли не бяшеть»9. Что касается Илариона, то созданное им «Слово», вполне может рассматриваться в качестве образцового произведения древнерусской литературы.
Несколько лучше обстояло дело в отношении митрополитов-греков. Например, митрополит Никифор оставил после себя самый большой корпус ли- тературных сочинений10. Несколько сложнее обстоит дело с митр. Феопемп-том. М.Д. Присёлков полагал, что по инициативе названого святителя возник древнейший летописный свод11. Вместе с этим достаточных оснований для того, чтобы подтвердить высказанную им идею, источники не предоставляют. Высока вероятность того, что именно с Феопемптом связано появление на Руси Студийского устава. Высказанные по данному поводу суждения А. Поппэ, основывавшегося, во-первых, на интерпретации митрополичьих именных булл с изображением патрона студийского монастыря Иоанна Предтечи, во-вторых, на трактовке программы росписи Киевской Софии и, в-третьих, на практике поставления игуменов Печерской обители в период жизни Антония Печерского, видятся вполне обоснованными12.
Очевидно, к книжной культуре тяготел русский митрополит Ефрем Переяславский. Его причастность к введению Студийского Устава13 и составлению цикла произведений, связанных с культом свт. Николая14 позволяют говорить о нём, как о человеке, хорошо знакомом с литургическими практиками и соответствующей литературой Византии и Западной Европы15.
Короткий список митрополитов-интеллектуалов несколько расширяется за счёт ещё дух имен — имени митрополита Льва (Леона, Леонтия), благодаря его безликому и практически невостребованному в древнерусской литературе полемическому произведению16, и митрополита Кирилла II17, которому принадлежит предельно краткое послание новгородцам18.
В итоге, в основу книжного наследия византийских по происхождению первосвятителей домонгольской Руси легло несколько антилатинских посланий, авторами которых оказались одни лишь греки: митрополиты Лев, Иоанн II, Георгий, Никифор и игумен Феодосий-грек, чьё произведение наверняка могло быть связано с интересами митрополии и империи19. Правда, с именем Георгия связано появление ещё двух произведений: 1) версии студийского устава20, переписывание которого, впрочем, было заслугой не первосвятителя, а уже упоминавшегося инока Ефрема, будущего переяславского митрополита21, и 2) ка- нонического сборника, который, правда, дошёл да нашего времени с существенными изменениями22. Аналогично обстоит дело и с митрополитом Иоанном, чьи канонические ответы представляют второй после Георгия пример русского церковноправового свода-вопрошания.
Не исключено, среди византийских иерархов присутствовала своего рода потребность в литературных упражнениях в жанре антилатинской полемики. Чем можно объяснить существование такого феномена? Возможных причин несколько. Во-первых, создание подобных произведений могло рассматриваться в качестве обязанности, порождённой статусом епископата. Скорее всего, такое сочинительство служило своеобразной декларацией своей благонадёжности перед властями империи. Во-вторых, в условиях Руси, с её теснейшими связями со знатью и правящими домами Западной Европы, с точки зрения византийцев и грекофилов, существовала реальная необходимость в обличении латинских «заблуждений». Вероятно, создававшиеся произведения писались с расчётом быть зачитанными перед князем и местными элитами. Как правило, подобные сочинения представляли собой попытку влияния на европейскую политику правящего рода23. В-четвёртых, антилатинские послания наверняка адресовались и для духовенства. Церковные иерархи, в лице византийцев, едва ли были готовы легко согласиться с той мягкостью и снисходительностью, которая присутствовала в умонастроениях русского духовенства в отношении латинских обычаев. Достаточно отметить, что тот же Анастас Корсунянин, обласканный князем Владимиром, в период опасности предпочёл найти себе убежище не в Византии, а в Польше, и летописец сообщил об этом без какого-либо осуждения24.
Не менее краток список епископов, так или иначе тяготевших к книжной культуре или хотя бы замеченных в интересе к чтению или созданию ли- тературных произведений. Это новгородские архиереи Лука Жидята (†1060)25, Никита (†1108)26, Даниил (†1121)27, Нифонт (†1156) и Аркадий (†1163)28, Илья (†1165)29 и Антоний Ядрейковичь (Андрейковичь) (†1232)30, белгородский епископ Григорий († до сер. XIII в.)31, святители Кирилл Туровский († ок. 1182)32 и
Симон Суздальский (†1226), названный «милостивым и учительным»33. Правда, что касается Нифонта, то рассматривать его в качестве автора самостоятельных произведений никак нельзя. Он был организатором владычного летописания и лицом, благословившим34 каноническую реформу Кирика. В равной мере данное замечание относится и к Аркадию. Сами они ничего не написали (или ничего после себя не оставили или до нас не дошло). И тем не менее, ответы Нифонта и Аркадия ясно указывают на то, что они были знакомы с бытовавшими в тот период на Руси каноническими сборниками, правда, теми, которые можно было бы назвать святоотеческими.
Также неоднозначно может быть оценён труд новгородского владыки Антония. При анализе его книги-хожения О.А. Белоброва обратила внимание на обилие использованных в сочинении просторечных форм имён и названий35. А это означает, что будущий архиепископ не получил систематического образования, позволившего бы ему более изыскано и точно выражать свои мысли. Вероятно, в своё время обучение Антония было ограничено усвоением элементарных знаний и основ письма, из чего можно заключить, что рассматриваемое творение было не только плодом благочестия, но и результатом деятельности пытливого ума, занимавшегося самообразованием. Очевидно, на Руси в церковном кругу уже бытовали подобные произведения, что и позволило будущему новгородскому владыке создать собственное сочинение, наполнив его своими чувствами и речевыми «ошибками», придавшими данному «Хожению» неповторомость и оригинальность.
Специфические оценки уровня грамотности и компетентности архиереев можно обнаружить не только у древнерусских авторов, но и в зарубежных источниках. Так, описывая пребывание в Лионе митрополита Петра Анкеро-вича, составитель анналов Бертонского монастыря оставил следующую характеристику древнерусского архиерея: «Среди прочих прелатов мира прибыл на собор в Лионе рутенский архиепископ по имени Петр, который, как утверждали некоторые, вернувшиеся с собора, не знал ни латинского, ни греческого, ни еврейского языка и всё же через толмача блестяще перед лицом его святейшества папы изложил Евангелие» 36 . Очевидно, что Петр был грамотен, смышлён в делах политических и религиозных, но всё же даже по западноевропейским меркам — недообразован.
Несомненно, архиереи не могли не пользоваться книгами. Вопрос заключается лишь в том, что именно они читали (служебники-лекционарии или же нечто более «существенное»)? Как часто это происходило и какой имело результат, если имело вообще какой-либо результат, для жизни архипастыря и для судеб паствы? В этом отношении занятен сюжет, связанный с ростовским епископом Кириллом. Отмеченный в политических делах и в склонности к стяжательству упомянутый архиерей ни разу не был замечен как человек, интересующийся литературой. Однако, как выяснилось позже, она повлияла и на его судьбу, правда, весьма странным образом. Оставив кафедру и удалившись «на покой», епископ забрал с собой огромное даже по меркам нашего времени иму-щество37. Среди присвоенного им значились в том числе книги, которые, правда, рассматривались летописцами, обвинителями и свидетелями дела не как интеллектуальный багаж святителя, а как материальное богатство. Из летописного текста, как и из жизни архиерея ничего нельзя заключить о том, что это была за литература и насколько она была востребована престарелым архипастырем в качестве источника каких-либо знаний и кладезя духовного опыта. Собственно, и сами современники, отбирая имущество, очевидно, полагали, что старому архиерею, удалившемуся на отдых для молитв и покоя, эти книги ни к чему.
Таким образом, вырисовывается весьма примечательная ситуация вокруг проблемы востребованности книг в церковной среде Руси.
Правда, нельзя не признать, что литературные способности некоторых, казалось бы заслуживающих внимания архипастырей, так и не были замечены летописцами. Причём это касалось самых плодовитых на литературном поприще лиц. Скажем, если оценить вклад разных архиереев в создание фонда письменных памятников Древней Руси, то превознесённый летописцем за свою книжность Иоанн II оставил после себя лишь «Канонические ответы» и послание антипапе Клименту III38, в то время как митрополит Никифор и епископ Кирилл Туровский, чьё существенное для своего времени литературное наследие даже суммарно значительно превосходит литературные усилия всего архиерейского корпуса домонгольского периода, вообще не удостоились каких-либо даже скромных похвал за свои, несомненно, высокие поэтические, интеллектуальные и иные дарования и успехи39. Чем можно объяснить умолчание летописцев подобного положения дел?
Никифор был греком и его творения нуждались в переводах, что и могло привести к недооценке литературных заслуг святителя при его жизни. Но как быть с Кириллом? Его произведения в Древней Руси воспринимались как образцовые, но имя этого святителя даже не попало в южнорусское летописание. Гуляющая из статьи в статью ссылка на якобы имеющееся упоминание имени Кирилла в Ипатьеской летописи под 1169 г.40 — ошибочна. Поэтому единственная причина подобных умолчаний — церковно-политическая конъюнктура, тем более, что святительство Кирилла выпало на период наибольшей политической автономии Турова от Киева.
Указанная особенность труда летописцев, для которых была характерна подозрительная избирательность сюжетов и личностей, с точки зрения современного взгляда, едва ли может найти исчерпывающее вразумительное истол- кование. Если сравнивать произведения русских авторов, даже если они были из греков, с византийскими сочинениями этого периода, то как с литературной, так и с канонической точек зрения достоинства работы Георгия, Иоанна II и Нифонта Новгородского небезупречны. К тому же, как уже было отмечено, свод канонических рекомендаций Нифонта самому епископу не принадлежал и был плодом многолетнего труда учёного монаха Кирика и его последователей священников Саввы и Ильи. Не менее показательно отношение современников к этому новгородскому владыке. Оценка усилий и трудов названного святителя со стороны горожан оказалась противоречивой. Очевидно, на берегах Волхова знали цену не только добродетелям своего архипастыря, но и его амбициям. Эти настроения нашли своё отражение в посмертном слове41. В это же время в Киеве, а особенно в Печерском монастыре, где Нифонта знали как самого успешного из своих питомцев, новгородского владыку искренне идеализировали. В нём видели едва ли не святого исповедника и страдальца42.
Не менее противоречива оценка письма Иоанна II папе. Присутствующая в послании полемичность и приводимые доводы традиционны, в некоторых случаях схоластичны и в целом ничего нового в догматических взглядах сторон не выявили, правда, сосредоточились на наиболее существенных разногласиях церквей, отбросив всё второстепенное. В этом отношении послание Иоанна превосходит горячий и мелочный абсурд наставлений Феодосия43 к князю Изясла-ву44. Что же касается формы письма Иоанна, то его достоинство заключается в том, что оно выдаёт личное отношение Иоанна к понтифику. Русскому первосвятителю, чья кафедра украшала границы христианского мира, пугавшие современников своей дикостью и удалённостью, явно льстило обращение к нему папы45. Доброжелательность данного послания исключительна и с литературной точки зрения. В указанном плане письмо Иоанна необычно для дипломатической практики и представляет не совсем типичный образец эпистолярного жанра своей эпохи, когда дело касалось вопросов веры46 .
Также неоднозначна оценка канонических ответов митрополита Георгия, подвергшихся в XII в. существенному редактированию47.
Нельзя исключать того, что истоки такой странной необъективности и, может быть, даже предвзятости летописцев следует искать в идейных взглядах названных архиереев, а также в политической конъюнктуре, которой наверняка были подвержены составители сводов. Иоанн II — любимец Всеволода, отца Владимира Мономаха. Оба князя были виновны в не вполне законном занятии киевского стола и нуждались, по крайней мере, в божественном оправдании. Усилиями Владимира, собственно, Повесть временных лет, эсхатологические цели составления которой вполне очевидны48, и приобрела известные нам вид и смыслы, «заточенные» под интересы потомства Всеволода.
Несколько иная ситуация во взаимоотношениях митрополита Никифора и Владимира Мономаха, во многом обязанного своим великокняжеским престолом киевскому первосвятителю49. Даже несмотря на то, что при Никифоре и Мономахе произошла переориентация интересов великокняжеского стола в сторону Византии, общение этих двух сильных, властных и выдающихся личностей оказалось не столь однозначным50. Вероятно, мирные отношения между князем и митрополитом были испорчены русско-византийским военным противостоянием 1116 г.51 Летописцы не могли не ощущать подобных веяний при дворе князя. Поэтому достоинства Иоанна, прямо не вникавшего в дела князя, оказались чуть преувеличенными, а заслуги Нифонта, имевшего неосторожность навязывать Мономаху некоторые свои идеи, несколько преуменьшенными. Из всего этого можно заключить, что образованные, начитанные и по-настоящему «книжные» лица на древнерусских кафедрах были явлением исключительным.
Тем не менее, справедливо ли видеть главной виновницей ситуации исключительно одну лишь епископскую среду? Не менее острыми стали бы иные вопросы, связанные с интересами и подготовленностью самого древнерусского общества к принятию святительской власти. Действительно, нуждалась ли сама паства и местное русское духовенство в высокообразованных архиереях? Способна ли была церковная среда Руси принять грамотного и начитанного архипастыря? Скорее всего, ответ окажется отрицательным. Вероятно, и сами князья далеко не всегда приветствовали в своём окружении сильных и образованных архиереев. Сменивший Иоанна II Иоанн III был не только хил, слаб, болен и изувечен (скопец), но и «прост умом»52. Если учесть, что новый митрополит был привезён в Киев в обозе Янки, Анны Всеволодовны, дочери великого князя Всеволода Ярославича, то нельзя исключать того, что в при всех достоинствах предыдущего обладателя русской первосвятительской кафедры, при княжеском дворе неоднозначно оценивали деятельность покойного митрополита и более не стремились видеть около себя подобную же сильную личность. Возможно, именно поэтому выбор Янки пал на «простого умом», старого, больного и, наверное, глуповатого Иоанна III.
Пытаясь оправдать столь специфичную летописную характеристику митрополита, А.В. Поппэ вполне резонно заметил, что «простота ума» не обязательно означала глупость. Под ней могли понимать и «апостольскую простоту», и отсутствие систематического богословского образования «некнижного мужа», и простодушие, и открытость, и бесхитростность53. Но и в этом случае, нельзя не признать того, что Иоанн III значительно уступал своему предшественнику умом и талантами.
Не менее показательно отрицательное и насмешливое отношение некоего пресвитера Фомы к творчеству Климента Смолятича54. Намёк на неодобрительное отношение к некоторым знаниям присутствует и в рассказе о печерском монахе преподобном Никите-затворнике, о будущем епископе Новорода55. Правда, последнее не так однозначно. Братия осуждала не столько учёность Никиты, сколько его увлечённость ветхозаветными книгами, в которых видели «жидовские писания». Очевидно, затворник, по мнению насельников обители, недооценивал Новый Завет, что и вызывало недоверие к нему со стороны собратьев. К тому же неодобрительную оценку получила и молитвенная практика Никиты, приведшая подвижника к прелести. Однако было бы ошибкой не признать того, что у автора рассказа о Никите присутствовало восхищение способностями Никиты, его знания текстов и дар воспроизводить их по памяти56.
Очевидно, среди священнослужителей отношение к образованию было настороженным, а порой и отрицательным57. Собственно, уже то, что интеллектуальные достижения некоторых, безусловно, выдающихся церковных авторов не были отмечены в летописании, наводит на мысль, что составители записей о митрополите Никифоре и Кирилле Туровском не видели в литературных успехах этих святителей достоинств, заслуживающих внимания потомков. То есть часть духовенства не только не ожидала от своих иерархов образованности, но и как в истории ростовского епископа Кирилла полагала, что не архиерейское это дело читать книги и писать сочинения.
Есть все основания полагать, что часть священства ожидала от епископата иного, но чего? Пока мы не готовы однозначно разрешить данную проблему. Но комплекс вопросов к митрополиту Иоанну и ответы Нифонта на вопросы священника о пирах и внесение этой записи в «Вопрошание» позволят заключить, что в архиереях нередко желали видеть, прежде всего, князей церкви, строителей, власть имущих, судей, администраторов и распорядителей, впечатляющих окружающих своей внешностью, правами и решениями. В лучшем случае, от них желали «учительства», т.е. своего рода наставничества, что отнюдь не может рассматриваться в качества синонима «интеллектуального обра-зования»58. В итоге, в религиозной жизни восточнославянского общества практически не встречаются богословские споры, а древнерусская библиотека не превышает непритязательную для ума библиотеку рядового византийского или болгарского монастыря. При этом основное внимание проповедей и внутрицер-ковных разбирательств связаны с вопросами нравственности, хозяйственной и административно-канонической жизни и подчинённости, а также постов, т.е. явлений сугубо внешних и не предполагающих какой-то глубокой мыслительной деятельности, способной к настоящей ереси. В этом угадывается крайне неприглядное отношение какой-то части древнерусского общества к книжности епископа: похоже, чаще в тяге архиерея к чтению видели не насущную потребность, а развлечение, как это было в случае обличений в адрес Климента Смолятича со стороны пресвитера Фомы. Возникновению сложившейся ситуации способствовало и отношение к образованию и литературным упражнениям большинства самих архиереев.
Достаточно обратить внимание на то, что переводческая, литературная и проповедническая деятельность в Киеве была инициирована не митрополитами, а Ярославом Мудрым, вынужденным даже поучать священников59. Подобная ситуация существует и вокруг проблемы действия епископских канцелярий и скрипториев. Создание самого крупного новгородского скриптория, деятельность которого подтверждается источниками, было завершено только при Ни- фонте (середина XII в.). Что касается остальных канцелярий, то об их деятельности и существовании можно только догадываться60.
Сохранившийся корпус источников позволяет заключить, что основные интересы духовенства и епископата концентрировались вокруг вопросов богослужебной и духовнической практики, а также регламентации повседневного быта61. Правда, нельзя отрицать того, что при всей почти полной невостребован-ности в среде архиереев литературы познавательного и художественного свой-ства62, исключения всё же присутствовали. Они представлены немногочисленными «Хожениями», возможно, единичными историческими произведениями и какими-то познавательными текстами. Так, в «жидовских книгах», к которым тяготел прп. Никита, можно усмотреть не только книги Ветхого Завета, но и
«Историю иудейских войн» Иосифа Флавия, которая в древнерусском сознании была неотделима от книг Священного Писания63. О знакомстве Климента Смо-лятича с какой-то «палейной» литературой и «шестодневами» можно судить по насмешкам пресвитера Фомы и по тем, рассуждениям, которые изложил святитель в последней части своего послания к своему оппоненту в священническом сане64. Правда, судя по всему, знакомство названных архиереев с этой литературой произошло ещё до возведения на кафедру и, похоже, что с принятием на себя обязанностей по управлению церковным округом угасало. Во всяком случае, об увлечении Никиты «жидовскими книгами» во время его пребывания в Новгороде ничего не известно. Спорным остаётся и вопрос даты создания «Послания» к пресвитеру Фоме.
Приходится признать, что тягу к литературному творчеству, хотя и обусловленному исключительно церковными вопросами, сохраняли, главным образом, греческие митрополиты. Что же касается русского епископата, то книжные увлечения митрополитов Илариона и Климента, а также туровского епископа Кирилла и печерского воспитанника епископа Симона, связанных с иноческой традицией, смотрятся на фоне большей части древнерусского архиерейского корпуса явлением исключительным и нетипичным.
Как уже отмечалось, наибольшую тягу к книжному знанию проявляли представители монашества, что, возможно было обусловлено как социальными корнями насельников и их прежним воспитанием, так и особенностями организации быта и жизни монастыря, в котором монах, не обременённый излишними заботами, мог найти время для чтения. Насмешник Фома, очевидно, не был иноком. В послании он именуется лишь «пресвитером», что позволяет видеть в нём мирского священника. Скудость жизни значительной части мирского духовенства и материальная неустроенность едва ли могла способствовать его интеллектуальному росту65. Далеко не всегда благоприятствовало литературным упражнениям городских и сельских пастырей и экономическое преуспевание.
Социальное и материальное положение городских мирских священников было несколько лучшим и сближало их со «средними» городскими слоями, представленными купечеством, какими-то «административными» лицами и т.д.66 Во всяком случае необходимо согласиться с мнением Я.Н. Щапова, полагавшего, что в домонгольской Руси клиросы городских храмов могли обладать «некоторыми городскими функциями широкого значения»67. В данном отношении увлечение новгородского духовенства ростовщичеством позволяет сделать несколько предварительных выводов о социальных корнях этих пастырей. Подобная жизненная практичность позволяет говорить о наличии у пастырей начального капитала, известной жизненной хватки, грамотности, знаний счёта и, как бы сейчас сказали, «профессиональной» подготовки. Случайный человек не мог проникнуть в сферу денежных обращений. Кроме этого нельзя не принять во внимание то, что в средневековом городе распределение профессиональных функций между городскими группами подвергалось жесткой регламентации, а значит, ростовщическая деятельность новгородского духовенства была одобрена городскими верхами и воспринималась как неотъемлемое право священников. Поэтому среди причин, объяснявших снисходительное отношение епископа Нифонта к пастырям-ростовщикам68 можно увидеть и нежелание архиерея осложнять отношения с духовенством, за которым стояли интересы городской знати, поддержка которой была необходима и властному Нифонту. Такая сугубо практическая направленность жизни мирских пастырей едва ли могла способствовать интеллектуальной жизни, основания которой обретаются в иррациональных и абстрактных процессах.
В данном отношении монашество выгодно отличалось от мирских «попов». Анализ созданных в иноческой среде летописных и иных, в том числе кано- нических произведений, позволяют говорить о знакомстве иноков Печерского, Выдубицкого и Антония Римлянина монастырей69 с русскими летописными сводами, некоторыми «зарубежными» историческими текстами («Иудейской войной» Иосифа Флавия и «Хроникой» Георгия Амортола), библейскими книгами, космологическими теоретическими математическими расчетами, епитимийни-ками, разнообразными каноническими и правовыми сводами Византии и Европы, «Пелеями», «Шестодневами» и «Изборниками», агиографической литературой восточной и западной (скандинавской, ирландской и чешской) церковных традиций, большим корпусом назидательных святоотеческих текстов, из которых наибольшей популярностью пользовались творения Иоанна Златоустого. Понятно, что данная черта была характерна не для всякого монаха, а только для единиц, причём единиц небольшого круга монастырей. Однако и в таком случае отблеск этих знаний оставлял свой след на иноческой среде. Уже по одной этой причине епископат, выходивший из монашеской среды порой оказывался если и не способным к литературным опытам, то по крайней мере не чужд понимания важности такового, как это хорошо видно на примере Нифонта Новгородского.
Архиереи, оставшиеся в памяти как книжники-мыслители, оказались менее всего замеченными современниками, и едва ли оправданно видеть даже в самых образованных из епископов и митрополитов мыслителей. Лучшие из них с позиций достижений византийской словесности проявили себя лишь в малом: отчасти владели приёмами эпистолярного жанра, знали основные положения канонического права, были способны к составлению назидательных поучений. Некоторые из архиереев были знакомы с эклектичным содержанием Палей и Шестодневов, блестяще использовали приёмы придворной проповеди и дипломатической полемики. На фоне этого достижения митрополита Илариона и епископа Кирилла Туровского выглядят яркими исключениями, а грамотность даже самых образованных из новгородских святителей уступает глубине трудов иеромонаха Кирика. Плоды его творчества действительно позволяют говорить об этом иноке именно как о «мыслителе». Впрочем, всё высказанное выше представляет лишь предварительный очерк к работе, посвящённой образу древнерусского епископата, а поэтому со временем наверняка будет переосмыслено и уточнено.
Список литературы Образование древнерусских епископов (конец X - первая треть XIII вв.)
- Вопрошание Кириково//Мильков В.В., Симонов Р.А. Кирик Новгородец: учёный и мыслитель. М.: Круг, 2011. С. 351-428.
- Григорий Богослов, свт. О себе самом и о епископах/Предисл. еп. Илариона (Алфеева), пер. иер. Алексея Ястребова//Церковь и время, 2003. № 1 (22) С. 106-172.
- Григорий Богослов, свт. О себе самом и о епископах/Введение А.Г. Дунавева, предисл. еп. Илариона (Алфеева), пер. свящ. Алексия Ястребова//Сайт А.Г. Дунаева. URL: http://www.danuvius.orthodoxy.ru/De\_episc.htm.
- Житие и жизнь иже во святых отца нашего Исайя епископа Ростовьскаго чюдотворца//Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: «Наука», 2003. Т. 12. С. 254-261, 575-576.
- Житие Феодосия Печерского/Подг. текста, перевод и комментарий О.В. Творогова//Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI -начало XII века/Вступ. ст. Д.С. Лихачёва; под общ. ред. Д.С. Лихачёва, Л.А. Дмитриева. М.: Худ. лит., 1978. С. 305-392; 456-458.
- Киево-Печерский патерик//Библиотека литературы Древней Руси: Т. 4: XII в./Под ред. Д.С. Лихачёва, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. СПб.: «Наука», 2004. С. 296-641.
- Полное собрание русских летописей: Т. 1.: Лаврентьевская летопись. М.: Языки русской культуры, 2001. 496 с.
- Полное собрание русских летописей: Т. 2.: Ипатьевская летопись. М.: Языки русской культуры, 2001. 648 с.
- Полное собрание русских летописей: Т. 3.: Новгородская летопись старшего и младшего изводов. М.: Языки русской культуры, 2000. XII, 720 с.
- Полное собрание русских летописей: Т. 4. Ч. 1: Новгородская четвёртая летопись. М.: Языки русской культуры, 2000. XXXVIII, 690 с.
- Полное собрание русских летописей: Т. 10.: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью (продолжение). М.: Языки русской культуры, 2000. 244 с.
- Послание епископа Даниила к Владимиру Мономаху (текст, перевод, комментарии)//Понырко Н.В. Эпистолярное наследие Древней Руси. XI-XIII вв. Исследования, тексты, переводы/Отв. ред. Д. С. Лихачёв. СПб., 1992. C. 29-58.
- Послание Климента, митрополита русского, написанное к пресвитеру Фоме, истолкованное монахом Афонасием, Господи, благослови, отче!//Понырко Н.В. Эпистолярное наследие Древней Руси. XI-XIII вв. Исследования, тексты, переводы/Отв. ред. Д. С. Лихачёв. СПб.: «Наука», 1992.С. 124-137, 140-149.
- Послание митрополита Иоанна к римскому папе Клименту III//Понырко Н.В. Эпистолярное наследие Древней Руси. XI-XIII вв.: Исследования. Тексты. Переводы/Отв. ред. Д. С. Лихачёв. СПб.: Наука, 1992. С. 24-40.
- Послание митрополита Кирилла к новгородцам//Памятники общественной мысли Древней Руси: Т. 1. Домонгольский период/Сост. и коммент. И. Н. Данилевский. М., 2010. С. 321, 640.
- Послание о неделе//Понырко Н.В. Эпистолярное наследие Древней Руси. XI-XIII вв. Исследования, тексты, переводы/Отв. ред. Д.С. Лихачёв. СПб.: «Наука», 1992. С. 14-15.
- Послание Переяславль-русского митрополита Льва (Леона) об опресноках//Памятники общественной мысли Древней Руси: Т. 1. Домонгольский период/Сост. и коммент. И.Н. Данилевский. М., 2010. С. 321-335, 640-641.
- Послание Феодосия Печерского князю Изяславу Ярославичу «О вере христанской и о латыньской»//Памятники общественной мысли Древней Руси: Т. 1. Домонгольский период/Сост. и коммент. И. Н. Данилевский. М., 2010. С. 295-297.
- Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград//Памятники общественной мысли Древней Руси: Т. 1. Домонгольский период/Сост. и коммент. И. Н. Данилевский. М.: РОССПЭН, 2010. С. 140-143.
- Слова и поучения Кирилла Туровского//Памятники общественной мысли Древней Руси: Т. 1. Домонгольский период/Сост. и коммент. И. Н. Данилевский. М.: РОССПЭН, 2010. С. 202-236.
- Белоброва О.А. О книге «Паломник» Антония Новгородского//Византийские очерки: Труды советских учёных к XV Международному конгрессу византинистов/Отв. ред. З. В. Удальцова. М.: «Наука», 1977. С. 225-235.
- Белякова Е.В. Замечания к полемике о Чине поставления епископов//Древняя Русь. 2011. № 2 (44). С. 118-119.
- Высоцкий С. А. Древнерусские надписи Софии Киевской. XI-XIV вв.: Вып. 1./Отв. ред. П. Н. Попов. Киев: Наукова думка, 1966. 239 с.
- Гайденко П.И. Критерии выбора кандидатов на епископство в домонгольской Руси: несколько штрихов к картине религиозной жизни древнерусского общества//Христианское чтение. 2013. № 1. С. 207-225.
- Гайденко П.И. Религиозная ситуация в Новгороде по материалам «Вопрошания» Кирика Новгородца//Кирик Новгородец и древнерусская культура. В 2-х ч. Ч. 2/Новг. гос. ун-т; ИФ РАН; отв. ред. В. В. Мильков. Великий Новгород, 2012. С. 139-157.
- Гайденко П.И., Филиппов В.Г. К вопросу о церковной собственности и церковных доходах в Киевской Руси (постановка проблемы)//Финно-угры -славяне -тюрки: Опыт взаимодействия(традиции и новации): Сборник материалов Всероссийской научной конференции/Удм. ин-т истории, языка и литературы УрО РАН, УдГУ; сост. и ред. А. Е. Загребин, В. В. Пузанов. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2009. С. 624-631.
- Гайденко П.И., Филиппов В.Г. Церковные суды в Древней Руси (XI -середины XIII века): несколько наблюдений//Вестник Челябинского государственного университета: История. Выпуск 45. 2011. 12 (227). С. 106-116.
- Гайденко П.И., Фомина Т.Ю. О церковном статусе Кирика Новгородца и иных составителей вопрошания//Вестник Челябинского государственного университета: История. Выпуск 51. 2012. 16 (270). С. 83-92.
- Гайденко П.И., Фомина Т.Ю. Обзор письменных источников по истории русской церкви и церковно-государственных отношений в домонгольской Руси. Т. 1. Источники по истории русской церкви и церковно-государственных отношений в Киевской Руси (до 1154 г.). Ч. 1. Летописные и каноническо-правовые источники, назидательные послания духовенства/Под ред. И. Н. Данилевского и И. П. Ермолаева; рец. Н. К. Гаврюшин, А.И. Мухамадеев, Я.В. Бухараев, Л.С. Астахова, свящ. Е.С. Харин. Казань; Набережные Челны: Тоис, 2008. 228 с.
- Галимов Т.Р. Киевские иерархи в политических связях Руси с Западной Европой//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 5 (31): в 2-х ч. Ч. 2. С. 39-42.
- Галимов Т.Р. Место церковной иерархии в византийской политике в отношении Киевской Руси//Казанская наука, 2012. № 10. С. 33-38.
- Голубинский Е.Е. История Русской Церкви: Том 1. Период первый, Киевский или домонгольский: Ч. 1. М., 1901. 968 с.; Ч. 2. М., 1904. 926, (XVII) с.
- Греков Б.Д. Новгородский Дом святой {Софии: (Опыт изучения организации и внутренних отношений крупной церковной вотчины). СПб., 1914. XIV, 544, 129 с.
- Данилевский И.Н. Повесть временных лет: герменевтические основы изучения летописных текстов. М.: Аспект Пресс, 2004. 383 с.
- Дворниченко А.Ю., Кривошеев Ю.В., Соколов Р.А., Шапошник В.В. Русское православие: от крещения до патриаршества. СПб.: СПбГУ, 2012. 412 с.
- Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. М.: Крутицкое патриаршее подворье, 2001. 936 с.
- Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории/И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. М.: РГГУ, 1998. 702 с.
- Каптерев Н.Ф. Светские архиерейские чиновники в древней Руси. М., 1874. 237 с.
- Колесов В.В. Григорий, епископ Белгородский//Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV -XVI в.). Ч. 1: А-К/АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д.С. Лихачев. Л.: «Наука», 1988.
- Колесов В.В. Кирилл Туровский: Творения блаж. Кирилла Туровского: Притчи, слова, молитвы: Исследования и тексты. М.: «Палея», 2009. 208 с.
- Котышев М.Д. О поземельных сделках в Древней Руси (к изучению надписи № 25 из Киевской Софии)//Исследования по русской истории и культуре: Сб. стат. к 70-летию проф. И. Я. Фроянова/Отв. ред. Ю. Г. Алексеев. М.: «Парад», 2006. С. 164-174.
- Костромин К.А., свящ. Проблема атрибуции «Слова Феодосия, игумена Печерского, о вере крестьянской и о латыньской»//Христианское чтение. 2011. 1(36). С. 6-97.
- Кочеляева Н.А. Памятники русской паломнической письменности (XII-XVII вв.) в мемориализации христианского культурного наследия: Дисс. к.и.н. М., 2004. 313 с.
- Купорова Г.Ш., Фомина Т.Ю. Епископская улица новгородского кремля//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 9.
- Лурье В.М. Введение в критическую агиографию. СПб.: Axioma, 2009. 238 с.
- Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви: История Русской Церкви в период совершенной зависимости её от Константинопольского патриархата (988-1240)/Науч. ред. А. В. Назаренко. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995. Кн. 2. 704 с.
- Малето Е.И. Повседневная жизнь удельной Руси в контексте «Хожений» русских путешественников XII-XV веков: дисс. д.и.н. Тамбов, 2011.
- Мильков В.В. Духовная дружина русской автокефалии: Лука Жидята//Россия XXI в. 2009. № 2. С. 116-157.
- Мильков В.В., Симонов Р.А. Кирик Новгородец: учёный и мыслитель. М.: «Круг», 2011. 544 с.
- Митрополит Никифор/Исслед. В. В. Милькова, С.В. Милькова, С.М. Полянского; подг. текстов В. В. Милькова и С.В. Мильковой; пер. С.М. Полянского; коммент. А. И. Макарова, В. В. Милькова, С.М. Полянского. СПб.: ИД «Мiръ», 2007. 560 с.
- Михайлов В.А. Эволюция жанра литературного путешествия в произведениях писателей XVIII-XIX вв.: Дисс. к. филол. н. Волгоград, 1999. 199 с.
- Мусин А.Е. Церковь и горожане средневекового Пскова. Историко-археологическое исследование. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2010. 364 с.
- Никольский М.Н. История русской Церкви. М.: «Политиздат», 1985. 448 с.
- Павлов А.С. Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян. СПб. 1878. 210 с.
- Пентковский А.М. Типикон Патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М.: Изд-во Моск. Патриархии, 2001. 432 с.
- Понырко Н.В. Эпистолярное наследие Древней Руси. XI-XIII вв. Исследования, тексты, переводы/Отв. ред. Д. С. Лихачёв. СПб.: «Наука», 1992. 216 с.
- Поппэ А. Студиты на Руси. Истоки и начальная история Киево-Печерского монастыря. Київ: IIУ НАНУ, 2011. 152 с.
- Поснов М.Э. История христианской церкви (до разделения Церквей -1054 г.). Брюссель: «Жизнь с Богом», 1964. 614 с.
- Присёлков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XII вв. СПб.: «Наука», 2003. 245 с.
- Соболевский А.И. Два русских поучения с именем Григория//Известия отделения русского языка и словесности. Т. 12. Кн. 1. 1907. С. 250-262.
- Сон Джонг Со. Житие Кирилла Туровского в составе Пролога//Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. Т. 55. С. 228-239.
- Тальберг Н.Д. История христианской Церкви. М.: «Интербук»; Нью-Йорк: «Астра», 1991. 845 с.
- Толочко П.П. Страсти по митрополитам киевским//\textgreek{ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ: Сб. статей в честь 75 летия Г.Г. Литаврина. СПб.: Алетейя. С. 110-118.
- Турилов А.А. Ответы Георгия, митрополита Киевского, на вопросы игумена Германа -древнейшее русское «вопрошание»//Славянский мир между Римом и Константинополем. М.: «Индрик», 2004. С. 211-262.
- Флоря Б.Н. Архиерейский дом//Православная энциклопедия. Т. 3. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2001. С. 532-534.
- Хрусталёв Д.Г. Разыскания о Ефреме Переяславском. СПб.: «Евразия», 2002. 448 с.
- Цыпин В., прот. Архиепископ//Православная энциклопедия. Т. 3. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2001. С. 530-531.
- Чумакова Т.В. Авраамий Смоленский: книжник и религиозный деятель//Ученые записки. Межнациональный гуманитарно-технический институт Поволжья. Т. 6. Материалы научно-практической конференции «Религиозный фактор в Восточной Европе: история и современный контекст». Чебоксары, 2004. С. 15-17.
- Шахматов А.А. Киево-Печерский патерик и Печерская летопись//Шахматов А.А. История русского летописания. Повесть временных лет и древнейшие русские летописные своды. Ранние русские летописи X-XII вв./Отв. ред. В. К. Зибров и В. В. Яковлев. СПб.: «Наука», 2003. Т. 1. Кн. 2. С. 75-102.
- Щапов Я.Н. Государство и Церковь Древней Руси XI-XIII вв. М.: «Наука», 1989. 232 с.