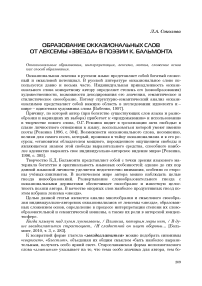Образование окказиональных слов от лексемы «звезда» в поэзии К. Бальмонта
Автор: Соколова Людмила Алексеевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2 (16), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу окказиональных слов в творчестве К.Д. Бальмонта, образованных от лексемы «звезда» путем сложения корней и основ. Проанализированы стихотворения всего корпуса поэтических текстов автора. Выявлено, что новых слов, образованных указанным способом, более 15; основы их индивидуальны, характерны для идиостиля К.Д. Бальмонта.
Окказиональные образования, интерпретация, лексема, мотив, сложение основ как способ образования
Короткий адрес: https://sciup.org/144153187
IDR: 144153187
Текст научной статьи Образование окказиональных слов от лексемы «звезда» в поэзии К. Бальмонта
Окказиональная лексика в русском языке представляет собой богатый словесный и смысловой потенциал. В русской литературе окказиональное слово используется давно и весьма часто. Индивидуальная принадлежность окказионального слова конкретному автору определяет степень его (новообразования) художественности, возможности декодирования его значения, семантическое и стилистическое своеобразие. Потому структурно-семантический анализ окказионализмов представляет собой важную область в исследовании идиолекта и – шире – идиостиля художника слова [Бабенко, 1997].
Причину, по которой автор (при богатстве существующих слов языка и разнообразии и вариациях их выбора) прибегает к «придумыванию» и использованию в творчестве нового слова, О.Г. Ревзина видит в «реализации акта свободы» в плане личностного отношения к языку, воспользоваться которой умеют именно поэты [Ревзина 1996, с. 304]. Возможности окказионального слова, несомненно, велики для самого поэта, который, проникая в тайну окказионализма и в его ресурсы, «становится обладателем мощного, порожденного ощущением свободы и являющегося знаком этой свободы выразительного средства, способного наиболее адекватно выразить свое индивидуально-авторское видение мира» [Ревзина, 1996, с. 305].
Творчество К.Д. Бальмонта представляет собой с точки зрения языкового материала богатство и оригинальность языковых особенностей; однако до сих пор данной языковой личности уделяется недостаточно внимания, особенно со стороны учёных-лингвистов. В поэтическом мире автора можно наблюдать целые гнезда новообразований. Развертывание словообразовательного гнезда с окказиональными дериватами обеспечивает своеобразие и известную целостность поэзии автора. В качестве опорных слов наиболее продуктивных гнезд поэтом избрана лексема «звезда».
Целью данной статьи является анализ многообразия и смыслового своеобразия индивидуально-авторских окказионализмов от лексемы «звезда», образованных сложением основ, определение в процессе интерпретации степени их словообразовательной и семантической новизны, а также их роли в авторской концеп-тосфере.
Когда плывут над лугом луннозвоны, / Влияния, которым меры нет, / В душе звездозлатится страстоцвет, /И сладостной он ищет обороны... [Бальмонт, 2010, т. 3, с. 283].
К возвратной форме глагола «звездозлатится» можно подобрать синонимы «сверкает», «блестит», объединяя их общим смыслом «быть наиболее выразительным, излучать особо яркий свет». Старославянская форма неполногласного слова «златится» указывает на то, что тема особо значима для автора, тем бо- лее что речь идёт о душе, в которой «золотится звездой», очевидно, сладостное чувство (возможно, любовь).
Словообразовательный ряд представляют окказионализмы звездотканных ( звездотканное )» – « звездотканность », где абстрактный номинатив образован посредством суффикса – ОСТЬ (ср.: «возможность», «плоскость»), а атрибутивы различаются грамматическими признаками числа и рода: Богиня Белой Жатвы, / Богиня Звездотканности [колибри].. .[Там же т. 2, с. 115].
Уж ты птица голубица / Нежна горлица моя! / .Ты проведшая чрез реки / На высокое крыльцо! / Подарившая навеки / Звездотканное кольцо!. .[Там же, т. 3, с. 32].
Окказионализм « звездотканность » появляется путем сложения корневой основы «звезд-» и «ткать». Очевидно, экзотическая птица колибри, имеющая в природе яркое разноцветное оперение, напоминает автору сплетение звезд, в свете которых можно также увидеть все цвета радуги. С восхищением относясь ко всему экзотическому, Бальмонт называет колибри Богиней Звездотканности: оперение птицы «соткано» из звезд, экзотический образ птицы выразительно ярок и заслуживает, с точки зрения автора, поклонения.
Приблизительно такую же информацию несет в себе окказионализм « звез-дотканное ( кольцо )», только образ не назван прямо « звездотканным », он являет собой некое « звездотканное кольцо». Неравнодушный к птицам, поэт воспевает голубя, из контекста видно, что образ птицы наделен яркими характеристиками. Очевидно, « звездотканное кольцо » – символ соединения с голубицей (женщиной), которая дарит счастье и вдохновение. Кольцо, сотканное из звезд, «обручило» поэта с голубицей, и этот процесс совершается не на земле, а на небесах, и благословляется звездами.
Воспевая четыре стихии, Бальмонт отдает дань каждой, наделяя особыми качествами: Я с вами был, я с вами буду, / О, многоликости Огня. / В темнице кузниц неустанных, / Где горн, и молот, жар и чад, / Слова напевов звездот-канных / Неумолкаемо звучат. [Там же, т. 2, с. 192].
Образ Огня собирает в себе «многоликости», Огонь – это счастье, чудо, это яркие эмоции, слова, которые слагаются в « звездотканные напевы », бесконечно звучащие во Вселенной. Огонь возвышен, Огонь – это ядро звезд, освещающих Вселенную, поэтому и напевы, сотканные из звезд, побуждают гореть, даже если это продлится одно мгновение, являются движущей силой, праздником: И пусть я сам развеюсь дымом, / Но пусть Огонь войдет в меня, / Гореть хотя одно мгновенье, / Светить хоть краткий час звездой / В том радость верного забвенья / В том праздник ярко-молодой [Там же].
Своеобразен окказионализм « звездоокий » (« звездоокая »). Прилагательные мужского и женского рода образованы сложением корней «звезд-» и «око». Автор вводит в состав окказионализма старославянскую лексему высокого стиля «око» (глаз), очевидно, чтобы выразить особое отношение к описываемому: Под лазурью звездоокой / Дышат нежные цветы. [Там же, т. 2, с. 141].
На черном фоне белый свет / Меня мучительно пленяет. / И бьется ум. Дрожит. Не знает, / Не скрыт ли страшный здесь ответ. / Боясь принять ответ жестокий. / Вопрос я тайный хороню. / И вновь молюсь, молюсь - Огню / В тени Стремнины звездоокой... [Там же, т. 2, с. 170].
Цветы в мире Бальмонта наделяются способностью дышать, и здесь важно то, что цветы существуют не просто под ночным небом, синоним «лазурь» необходим для поэтизации ночной картины, где лазурь окидывает своим звёздным оком нежные цветы, даря им яркий свет; данный фрагмент уникален: воздух – это и есть «лазурь звездоокая», звездами глядящая на мир, освещающая жизненный путь.
Поэтичное сравнение неба со « стремниной звездоокой » не случайно, слово «стремнина» имеет в разных словарях два обобщенных значения: 1. это место в реке, где течение особенно бурно; 2. это крутой обрыв, бездна, ущелье, пропасть [Словари и энциклопедии]. Таким образом, у поэта Небо подобно стремнине: бесконечное пространство, полное непредсказуемости, с постоянным движением, бездна тайн и неизвестностей, свет звёзд – это символ надежды на то, что поиски ответов на вопросы завершатся успехом.
Контекстный синоним к слову «небо» есть и в стихотворении «Он который», где также наблюдается окказионализм « звездоокий »:
Он, который опрокинул / Свой лучистый лик, / Он, который мир раздвинул, / В час как к Ночи День поник. / Он, который мир Пустыни, / Мир Небес, где вечно, ныне, / Вечно тонет каждый крик, / Превратил во храм глубокий, / В свод святыни звездоокой , / Взором пристальным проник… [Бальмонт, 2010, т. 3, с. 246].
« Свод святыни звездоокой » – возвышенное наименование воздушного пространства со статусом святости, обладающей способностью звёздным оком обозревать все происходящее в мире.
Неудивительно и логично, что на фоне «звездоокости» небесного пространства появляется некто одушевленный с этим качеством: Лицо его было как Солнце – в тот час, когда Солнце в зените, / Глаза его были как Звезды – пред тем как сорваться с Небес, / И краски из радуг служили как ткани, узоры, и нити, / Для пышных его одеяний, в которых он снова воскрес. / …«Я первый, – он рек, – и последний», – и гулко ответили громы, / «Час жатвы, – сказал Звездоокий . Серпы приготовьте. Аминь»… [Там же, т. 3, с. 129].
В образе « Звездоокого » содержится божественное начало, указующее путь простым смертным, характеристика образа подчёркивает его неземное происхождение, окказионализм « звездоокий » описывает деталь лица – глаза: подобные звездам, излучающие звездный свет.
Итак, можно отметить, что окказиональный ряд с корневой основой «звезд-» и старославянской основой «око» приобретает в контекстах глубокий смысл, образы с данным качеством неземные, имеют божественное начало. Окказионализм насыщен глубокой семантикой, где ключевыми можно выделить ключевые семы : «божественность», «таинственность», «неизвестность», «движение», «яркий свет».
Окказиональное слово «звездомлечность» собирает в себе узуальные значения слов «звезда» и «млечный (путь)», образовано посредством корневой основы «млечный» с помощью продуктивного суффикса -ОСТЬ, который имеет значение отвлеченного признака или состояния (свежесть, жалость, смелость). В нашем случае его назначение – образовывать слова, содержащие уникальное значение либо имеющие уникальное образование от соответствующего корня независимо от других слов: Вверху огоньки, и внизу огоньки, / Вверху звездомлечность Великой Реки / Узорные волны проводит… [Там же, т. 3, с. 333].
Надо заметить, что Млечный путь – это: 1. пересекающая звездное небо неярко светящаяся полоса. Представляет собой огромное количество визуально не- различимых звезд, концентрирующихся к основной плоскости Галактики. Близ этой плоскости расположено Солнце, так что большинство звезд Галактики проецируется на небесную сферу в пределах узкой полосы – Млечного пути; 2. Собственно, название Галактики [Словари энциклопедии]. Звезды являются «материалом» Млечного пути. В контексте стихотворения данный смысл очевиден. Небо сравнивается поэтом с Великой Рекой, где «звездомлечность» – это бесконечное течение, материализованное в скоплениях ярких, светящих звезд, уводящее за грани обычного и понятного.
Заслуживают внимания окказиональный атрибут множественного числа « звездосветных » и его субстантивированный дериват с производным суффиксом -ОСТЬ « звездосветность ». Данные окказиональные образования самобытны и заключают в себе следующее значение: свет звезд (звездный свет): Свадьба Воды и Огня, / Это зеленые храмы растений /.При всемирных свечах звез-досветных полночных горении. [Бальмонт, т. 3, с. 200].
Сравнивая звезды с несчетными звездосветными свечами, поэт указывает на необходимость и значимость объекта: образная свадьба Воды и Огня благословляется Небом и освещается свечами. Образ свечи символичен не только в русской литературе, но и в фольклоре (например, свеча у Б. Пастернака как символ тепла и света отчего дома, куда можно вернуться, или свеча в фольклоре – атрибут гаданий).
В стихотворении «Иконостас» окказиональный субстантив « звездосвет-ность » заключает в себе божественное начало. Очевидно, речь идет о женщине, о Деве Марии, глаза которой излучают свет, подобный свету звезд: На моем иконостасе - Солнце, Звезды, и Луна, /... А еще в плодах деревья красят мой иконостас / Ширь пустынь, ключи, кочевья, звездосветность ждущих глаз, / Несмолкающая птица, блеск негаснущих огней, /И пресветлая Девица, луч последних наших дней [Там же, т. 3, с. 96].
Аналогично предыдущим окказиональным образованиям возникли окказиональный атрибут « звездоцветный » и субстантив « звездоцветность », а также образовавшийся посредством наречного суффикса – О адъектив « звездоц-ветно » в контекстах: Упоительные тени, / С чем, о, с чем я вас сравню? / Звездоцветные сирени, / Вам ли сердцем изменю?.. [Там же, т. 3, с. 211].
Закатилось красно Солнце, за морями спать легло, / .Рассадились часты звезды в светлом Небе, как цветы, /.Звезды, звезды за звездами, и лучист у каждой лик. / Уж и кто это на Небе возрастил такой цветник? / Златоц-ветность, звездоцветность , что ни хочешь - все проси. / В эту ночь Вольга родился на святой Руси [Там же, т. 2, с. 384].
... Шепнет звездоцветно в ночах как сирень [Древо] ... [Там же, т. 2, с. 418].
Значение указанных окказионализмов таково: цвет звезд (либо цвета, поскольку звезда светит всеми цветами радуги, включая полутона); метафорическое: цвести звездами. « Звездоцветные сирени » - образ цветов сирени, внешне похожих на звездочки, тем самым уподобленным звездам.
« Звездоцветность » – собирательный образ, цветы из звезд, «растущих» на Небе. Распускающиеся цветы звезд ознаменовывают волю Бога: на свет в такую Ночь появляется один из былинных героев Вольга, сила и храбрость которого воспевается в русских былинах.
Метафора « шепнет звездоцветно » [Древо] имеет прямое указание на объект (цветы сирени), который является важной составляющей образа Славянского
Древа, производящего звуковое действие («шепнет»). Адъективный признак « звездоцветно » указывает не на обычное действие с семой «издавать тихий звук», а именно «подобно звёздам, их цветению».
Следующий пример содержит очередное окказиональное образование: Аз есмь Бог вочеловеченный, / Звездоликостью отмеченный. [Там же, т. 3, с. 56].
Индивидуально-авторское слово « звездоликость » можно отнести к стилистически возвышенным и эстетически нагруженным: «лик звезды (звездный)». Употребление вместо стилистически нейтрального слова «лицо, образ» слова старославянского происхождения «лик» уместно и оправданно: в контексте речь идёт о сыне божьем, мотив божественности мы видим и в названии стихотворения «Аз есмь бог».
Интересно образование окказионализма « звездозаконники », разложим слово на составляющие: корневые основы «звезда» и «закон», которые по своему значению между собой совершенно не сочетаются (исключение – индивидуально-авторские контексты) и суффикса со значением «носитель предметного признака» – НИК (ср. «помощник»). Сущность словообразовательной модификации заключается в добавлении к основному значению мотивирующего слова некоторого дополнительного элемента смысла. Данный окказионализм называет собственно лицо (много лиц): Звездники, звездозаконники , / Божией воли влюбленни-ки / Крестопоклонники, / Цветопоклонники, / Здесь в Вертограде мы все / В невыразимой красе. [Там же, т. 3, с. 121].
По мнению П.В. Куприяновского и Н.А. Молчановой, поэт придумывает данное определение, чтобы обозначить «общников святости» – «братьев и сестер», определение проецируется на символистскую поэзию, «братство» – единомыслие творцов нового искусства [Куприяновский, Молчанова, 2001, с. 254].
Окказионализм-атрибут « звездокудрый » описывает внешнюю особенность сказочного героя Горошка, возлюбившего морскую Пани: Рассадились часты звезды в светлом Небе, как цветы, / Не пустили Ночь на Землю, не дозволя темноты. / Звезды, звезды за звездами, и лучист у каждой лик. / Уж и кто это на Небе возрастил такой цветник? / „. Звездокудрый - Горошек, и знает он чары / .И достал ей из Моря, со дна, / .И гирлянду морских расцветающих звезд... [Бальмонт, т. 2, с. 440].
Данный окказионализм создан по модели слова «златокудрый», Горошек, яркий признак которого – звездные кудри (яркие волнистые волосы), наделен волшебной силой («знает он чары») и ради прихоти любимой способен опуститься даже на морское дно.
Следует рассмотреть окказионализмы, образованные сложением корней «мног-» и «звезд-», они представлены в пяти единицах, что говорит о нагружен-ности корня «мног-»: В течениях причинностей плыву, / Как степь плывет под ветром ковылями. / Молюсь в ночах в многозвездистом храме. [Там же, т. 5, с. 22]. Сравнение Неба с « многозвездистым храмом » носит пространственный характер: Небо, священное место для совершения процесса молитвы: … Ночь темна, хоть много звездных есть лучей. / Вон, раскинулись узором круговым, / Звезды, звезды, многозвездный белый дым. / Упадают. В ночь осеннюю с Небес [Там же, т. 3, с. 257]. Бесчисленное количество звезд – это « многозвездный белый дым», причем автор выбирает белый цвет для описания звездного скопления, сравнивая плотный звездный поток с дымом.
... Сплетенья многозвездные / Меняют свет и тьму. [Там же, т. 2, с. 281].
™ И семь золотых семизвездий как свечи горели пред ним™ / Кто облек их в лучи многозвездных убранств?.. [Там же, т. 1, с. 322].
Эпитеты « сплетенья многозвездные » и « многозвездные убранства » поэтизируют образ звезд, наполняют его информацией об объемности, глобальности, бесконечности.
Ты стала меж мною и Солнцем, / Ты стала моим Новолуньем, / Я вижу сияющий призрак / В глазах многозвездится сон, / Персты в ослепительных кольцах, / В душе перегудные струны, / Одежды твои словно ризы, / Люблю я, цветочно влюблен™ [о радуге]... [Там же, т. 3, с. 356] - в стихотворении речь идет о красоте радуги. Невозможно однозначно истолковать значение слова « многозвездится (сон) », можно предположить, что это нечто яркое, праздничное, красочное, что несет в себе положительный заряд.
...Как рвутся черно-белые цветы, / Отсюда в междузвездное пространство. / Там дышит идеальность черноты™ [Там же, т. 1, с. 482] - в бесконечности звездного пути есть пространство между звездами, которое ещё более делает пределы этого пути размытыми.
Итак, анализ стихотворений К. Бальмонта выявляет более 15 новых слов и их форм с элементом «звезд-»: звездотканный-звездотканность; звездоокий-звездо-окость; звездосветный-звездосветность; звездоцветный-звездоцветно-звездоцвет-ность; звездоликий-звездоликость; звездозаконник; звездокудрый; звездозла-титься; междузвездный; многозвездный-многозвездистый-многозвездится. Появившиеся в процессе поэтизации новые слова стилистически нагружены, эмоционально возвышены, что вполне укладывается в рамки авторского идиостиля; в них появляются контекстные мотивы божественности, объемности, тотально яркого света, проникающего глубоко и оставляющего неповторимые впечатления. Интерпретация семантики многообразия окказионализмов также указывает на своеобразие авторского восприятия окружающего мира (в нашем случае небесного пространства). Сутью модели образованного слова является не его «правильность» в соответствии с законами языка, а его смысловая наполняемость, внешняя и внутренняя новизна, вызывающие у читателя эмоциональный отклик.