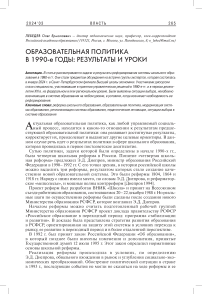Образовательная политика в 1990-е годы: результаты и уроки
Автор: Лебедев Олег Ермолаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются задачи и результаты реформирования системы школьного образования в 1990-е гг. Они стали предметом обсуждения на встрече группы экспертов, которая состоялась в январе 2024 г. в Санкт-Петербургском филиале Высшей школы экономики. Участниками дискуссии стали специалисты, участвовавшие в принятии управленческих решений в 1990-е гг. и в первом десятилетии XXI в. на федеральном и/или региональном уровне. Были выявлены ситуации выбора, неизбежно возникающие в системе образования на любом уровне, в условиях, когда возникает необходимость ее реформирования.
Реформа школьного образования, образовательная политика, модернизация системы образования, регионализация системы образования, педагогические инновации, ситуации выбора в системе образования
Короткий адрес: https://sciup.org/170204484
IDR: 170204484 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-3-265-277
Текст научной статьи Образовательная политика в 1990-е годы: результаты и уроки
А ктуальная образовательная политика, как любой управляемый социальный процесс, находится в каком-то отношении к результатам предшествующей образовательной политики: она развивает достигнутые результаты, корректирует их, преодолевает и выдвигает другие целевые ориентиры. В данном случае речь идет о результатах политики в сфере школьного образования, которая проводилась в первое постсоветское десятилетие.
Сутью политики, задачи которой были определены в начале 1990-х гг., была четвертая школьная реформа в России. Понятие «четвертая школьная реформа» предложил Э.Д. Днепров, министр образования Российской Федерации в 1990–1992 гг. С его точки зрения, в истории российской школы можно выделить три реформы, результатом которых стало создание качественно новой образовательной системы. Это были реформы 1804, 1864 и 1918 гг. Наряду с ними имели место, по словам Э.Д. Днепрова, и реформаторское «мелколесье», и мощные волны контрреформ [Днепров 1994].
Проект реформ был разработан ВНИК «Школа» и принят на Всесоюзном съезде работников образования, состоявшемся 20–22 декабря 1988 г. Но реальные шаги по осуществлению реформы были сделаны после создания нового Министерства образования РСФСР, которое возглавил Э.Д. Днепров.
Началом реформы можно считать подготовленный рабочей группой Министерства образования РСФСР проект доклада правительству РСФСР «Российское образование в переходный период: программа стабилизации и развития». В докладе была представлена стратегия развития образования в РСФСР, ориентированная на защиту этой системы в условиях перехода к рынку, ее развитие в переходный период и в более отдаленной перспективе.
В 1992 г. был принят закон Российской Федерации «Об образовании», в который позднее были внесены изменения и дополнения, принятые Государственной думой 12 июля 1995 г. Этот закон определил нормативные основы школьной реформы.
Реализация реформы происходила в условиях, по определению Э.Д. Днепрова, обвального вхождения в рынок и углубления социально-экономических преобразований. Обострение политической ситуации в стране в 1993 г., последующие события не могли не сказаться на ходе реформы и ее результатах. Но система образования менялась, развивались внутрисистемные процессы, некоторые из которых приобрели необратимый характер. Изменения в системе образования, ее состояние стали предметом обсуждения на заседании Государственного совета 29 августа 2001 г., которое проходило под председательством президента Российской Федерации В.В. Путина. По результатам обсуждения распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. была утверждена Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года.
Анализируя результаты образовательной политики, проводившейся в первое постсоветское десятилетие, необходимо уточнить, что понимается в этом случае под результатами. Под целями деятельности обычно понимают ее ожидаемые результаты. Но результаты деятельности далеко не всегда представляют собой реализованные цели. Это относится и к образовательной политике.
Вопрос о результатах образовательной политики 1990-х гг. стал предметом обсуждения на встрече экспертов, состоявшейся 17 января 2024 г. в Петербургском филиале Высшей школы экономики. Его участниками были специалисты, которые участвовали в принятии управленческих решений в 1990-е гг. и в первом десятилетии XXI в. на федеральном и/или региональном уровне. В роли модератора выступила кандидат педагогических наук, доцент НИУ ВШЭ А.Н. Бакушина. Обсуждение продолжилось и после встречи 17 января.
Участники обсуждения пришли к выводу, что при оценке результатов образовательной политики надо идти от изменений, которые стали происходить в системе школьного образования и в управлении образованием. В итоге сформировалось представление о том, что можно рассматривать как результаты политики, ориентированной на реформу системы образования.
В.К. Бацын, который в 1990-е гг. занимал пост начальника отдела защиты образовательного суверенитета республики, межведомственных и национально-региональных программ развития образования в Министерстве образования РСФСР, а затем пост заместителя министра образования РФ, обратил внимание на новизну самого аналитического доклада, адресованного правительству Российской Федерации (тогда еще бывшей одной из республик СССР).
Доклад основывался на анализе современного состояния системы образования. Этот анализ был честным, в нем открыто говорилось о нерешенных проблемах в сфере образования, в т.ч. школьного: последовательное снижение мощности образовательной сети (на одного учащегося в среднем приходилось 2,8 кв. м учебной площади, что в 1,5 раза ниже расчетного норматива); структура общеобразовательной сети не обеспечивала учет возрастных особенностей учащихся; содержание общего образования определялось учебными программами, основной массив которых был утвержден еще в 1960-е гг.; потребность в педагогических кадрах увеличивалась, а планы их подготовки не менялись; заработная плата российских учителей была существенно ниже, чем в целом по республике; учебно-материальная база школы не отвечала требованиям современных образовательных технологий. В докладе указывались и другие проблемы.
Общий вывод заключался в том, что школа не обеспечивает удовлетворительное решение стоящих перед ней задач. «Фактически она работает в один адрес – на государство, – говорилось в докладе. – Превратившись в государственно-бюрократическое учреждение, школа в целом функционировала до недавнего времени в режиме единообразия, единомыслия, единоначалия.
Реализуя основную социально-педагогическую установку административнокомандной системы на формирование “винтиков” этой системы, школа была ориентирована не на развитие, а на всеобщее усреднение личности. Задачи всестороннего и гармонического развития личности ею декларировались, однако по своему содержанию, формам и методам обучения и воспитания фактически не решались. Возможности развития ребенка значительно сужались также из-за искусственного школоцентризма детской жизни, стремления охватить всю жизнь ребенка рамками школы и превратить школу в “камеру хранения детей”» [Российское образование… 1991: 26].
В.К. Бацын отметил, что основные положения новой образовательной политики определялись в ходе широкой дискуссии по вопросам реформы образования, которая началась еще осенью 1988 г. в преддверии Всесоюзного съезда работников образования, состоявшегося в декабре 1988 г.
В ходе дискуссии выявилась ситуация выбора путей развития системы образования в меняющихся общественных условиях. Эту ситуацию можно описать в виде следующих вопросов:
– Образовательная сеть – совокупность государственных образовательных школ или совокупность государственных и негосударственных школ?
– Централизация или регионализация системы образования?
– Совершенствование содержания образования или обновление содержания образования, его очищение от идеологических догм?
– Система образования находится в силовом поле «треугольника», имеющего три вершины – государство, общество, ребенок. Какую из этих вершин школа считает для себя доминантной?
– На какую социальную базу необходимо опираться при реализации реформы – на «продвинутые» школы или на «массовую» школу?
Возникал вопрос и о том, какой образовательный опыт следует учитывать в процессе реформирования системы образования. Прежде всего, имелся в виду зарубежный опыт.
Е.А. Ленская, которая в 1990-е гг. руководила управлением международного сотрудничества Министерства образования РФ, в своем выступлении отметила, что когда она начала знакомиться с сотрудниками управления, то выяснилось, что среди них почти нет людей, мало-мальски сносно владеющих языками.
Е.А. Ленская обратила внимание на то, что советская система образования предпочитала ничего не знать о других системах, их инновациях и прогрессе. В педвузах практически ничего не рассказывали о зарубежных школах. К этому можно добавить, что в сфере науки «советская педагогика» рассматривалась как самостоятельная область научного знания, а не как конкретизация педагогики. Очевидно, что понятия «советская математика» или «советская физика» выглядели бы нелепо, но «советская педагогика» воспринималась как нормальное явление.
Анализируя изменения в области международного сотрудничества, которые начали происходить в 1990-е гг., Е.А. Ленская выделила несколько тенденций. В советское время полагалось сотрудничать в области образования не с целыми странами, а только с их регионами или городами-побратимами. Сотрудничество заключалось в обмене группами школьников, число которых с каждой стороны было ограниченным. Обмен педагогами был довольно редким. Практиковались зарубежные поездки сотрудников институтов Академии педагогических наук (тоже в порядке обмена).
Принципиально новым явлением в постсоветские годы стала разработка и реализация образовательных проектов, в которых участвовали зарубежные коллеги, и проведение международных конференций. Как отмечает Е.А. Ленская, международные проекты впервые позволили говорить о ком-петентностном подходе в образовании, о стандарте результата, а не содержания на входе, о школьных управляющих советах, новом рынке разнообразных школьных учебников и другой учебной продукции, о новых подходах к школьным экзаменам, новой языковой политике и новом поколении учителей иностранного языка, о новых подходах к оценке качества образования. Результаты международной деятельности Министерства образования позволили привлечь в систему образования в 1994 г. дополнительные средства, почти равные всему, тогда скудному российскому бюджету образования.
Заметным изменением в системе образования стала самостоятельность регионов в решении проблем образования. Фактически регионы выступили как субъекты Российской Федерации, имеющие право на самостоятельные решения в определенных сферах экономики и социальной жизни. Стоит напомнить, что до 1966 г. в Советском Союзе не было общесоюзного Министерства просвещения. По действующей Конституции министерства просвещения имели статус республиканских и создавались в союзных республиках. Фактически степень их самостоятельности была невелика, они выполняли указания общесоюзного органа управления образованием, функции которого выполнял отдел науки и учебных заведений ЦК КПСС.
О новых возможностях регионов в области образования на встрече говорила В.А. Прудникова, которая в 1990-е гг. была заместителем министра образования Самарской области. Она отметила, что новая команда управленцев приступила тогда к работе под девизом: «Образование должно стать ресурсом для социально-экономического развития региона, территории и человека». Акцент был сделан на организационно-финансовых изменениях в региональной системе образования. В регионе внедрялось нормативное финансирование, менялась структура сети сельских школ, создавались ресурсные центры, обеспечивалась автономность образовательных организаций. Стала складываться практика разработки программ развития региональных систем образования. В начале 1990-х гг. такие программы создавались, помимо Самары, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Свердловской и Тульской областях, Красноярском крае, на Сахалине и в ряде других регионов.
Программа «Петербургская школа» была ориентирована на изменения в региональной системе образования по нескольким направлениям [Лебедев 2022: 126-134]. Основное из них можно определить как создание условий для индивидуализации образовательных маршрутов учащихся. Как и во всей России, в Петербурге развивался процесс диверсификации школ, появились частные школы.
Складывалась практика разработки образовательных программ, учитывающих различия в образовательных возможностях учащихся: классы компенсирующего обучения в общеобразовательных школах для учащихся, испытывающих трудности в освоении обязательных учебных предметов; «реальные школы» для подростков, сочетающих общеобразовательную и профессиональную подготовку; программы обучения «Особый ребенок» для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Экзамены за курс средней школы учитывали особенности образовательных маршрутов учащихся: один из экзаменов по выбору можно было сдавать по программе дополнительного образования; была введена практика публичной защиты выполненных проектов вместо одного из экзаменов по выбору.
Появился добровольный экзамен по истории и культуре Санкт-Петербурга, который принимали известные люди города в торжественной обстановке во Дворце творчества юных.
Создавались службы школьных психологов и социальных педагогов, районные центры психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, оказывающие консультативную помощь в индивидуализации образовательных маршрутов учащихся.
Сложилась практика общественного признания образовательных достижений выпускников-медалистов. Золотые медали выпускникам вручал мэр города в Смольном. Медалисты награждались зарубежной поездкой (одновременно был усилен контроль за объективностью экзаменационных оценок претендентов на медаль). Начиная с 1994 г. выпускникам петербургских школ стали выдавать свидетельства о личных достижениях, в которых содержалась информация о полученном за годы обучения в школе дополнительном образовании, участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (по сути, это были свидетельства о выполнении индивидуальной образовательной программы).
Все региональные программы имели свою специфику, обусловленную особенностями социальной среды и имеющимися научно-педагогическими ресурсами.
Новым явлением в системе общего образования стали изменения в его содержании. «Инновационные волны» в советской школе (если иметь в виду постсоветский период) были связаны с иной структурой урока («липецкий опыт»), использованием новых методов обучения, попытками оптимизации учебно-воспитательного процесса, идеями «педагогики сотрудничества», но они не затрагивали принципиальных основ содержания общего образования.
В 1990-е гг. (и позднее) предметно-классно-урочная система сохраняется, но в ее предметном звене начинают происходить изменения. Участники встречи выделили ряд значимых явлений. Член-корреспондент Российской академии наук и действительный член Российской академии образования А.Л. Семенов обратил внимание на то, что в ситуации школьной реформы появлялись новые возможности для развития перспективных идей, возникших еще на предыдущих этапах развития образования. Такой идеей был другой способ учебы. Имеется в виду исследовательский способ учения, который может быть перенесен из деятельности научных работников, студентов вузов в общеобразовательную школу. В частности, А.Л. Семенов отметил, что в 1990-е гг. продолжалась перманентная цифровая трансформация содержания образования, что вело к выявлению новых возможностей традиционных учебных предметов.
Говоря о перспективах развития школьной математики, А.Л. Семенов отметил: «Математические уроки в школах, прежде всего, должны готовить учеников к реальной жизни. К сожалению, реальная жизнь все больше отдаляется от школ, и Четвертая школьная реформа мало способствовала сокращению этого разрыва. Единственная надежда могла бы быть на большую вариативность школьного образования: наличие разных учебников и разных путей для каждого учащегося. Но эти возможности сужаются в рамках того, что можно называть контрреформой. Все больше и больше математики в реальной жизни передается компьютерам. В этой связи создание математических приложений остается делом чисто творческим, человеческим. В эту сторону и должна развиваться школьная математика».
Н.А. Заиченко, которая в 1990-е гг. стала одним из инициаторов создания в школе системы экономического образования, указала на связь данной ини- циативы с расширением круга проблем, приобретающих личностную значимость в условиях социальных перемен. Относительная свобода формирования образовательной программы позволила ввести в учебный план новый предмет – экономику, а вместе с ним и новые формы организации обучения (проектные задания, ролевые и компьютерные игры, симуляторы рыночных отношений) и новые ценностные установки. Стало складываться понимание, что в конце XX в. экономическая компетентность является необходимым условием становления свободной личности.
Выявление возможных личностных смыслов изучения учебного предмета в 1990-е гг. находила выражение в образовательной практике школ, ориентирующихся на решение проблемы самоопределения учащихся в условиях трансформационных процессов, происходивших в обществе [Учитель, который… 1996].
Начинала складываться практика выбора школьных учебников, поскольку формировались несколько предметно-методических мнений по учебной дисциплине. Возникла и проблема формирования регионального компонента учебных пособий, отвечающего тенденции диверсификации школ.
В совокупности перечисленные явления создавали предпосылки для нового подхода к пониманию структуры содержания общего образования. Традиционно такая структура рассматривалась (и продолжает в большинстве случаев рассматриваться) как предметная, как совокупность предметных областей, которые являются общими для всех школ. Такой взгляд обеспечивает реализацию функции школы как социального института, формирующего общие ценности всего молодого поколения (в конечном счете, и всего общества).
Включение национальной системы образования в международный контекст, ориентация на регионализацию и индивидуализацию образования предполагала и другой взгляд на структуру общего образования, выявление в ней компонентов, отражающих глобальные достижения в различных областях культуры («теорема Пифагора – и в Африке теорема Пифагора»), национальные ценности и процессы, происходящие в конкретной стране, региональные особенности социально-экономического и социокультурного развития, индивидуально-личностные образовательные запросы. Такой подход к структуре общего образования позволял сформировать образовательную систему «для всех и для каждого». В 1990-е гг. были сделаны первые шаги в сторону такой системы. В настоящее время скорее можно говорить о шагах в обратном направлении – в сторону унификации содержания общего образования.
Ю.П. Малышев, председатель комиссии по образованию Законодательного собрания Санкт-Петербурга в 1990-е гг., отметил существенную особенность принятия управленческих решений в первые постсоветские годы: эти решения надо было принимать в ситуации общественного нетерпения, общего требования немедленного разрешения наиболее острых проблем. В этих условиях эффективным способом осуществления изменений в сфере образования стала ликвидация существовавших барьеров в виде запретов и ограничений для принятия самостоятельных решений на уровне образовательной организации.
В Ленинграде (который вскоре переименовали в Санкт-Петербург) общественно-педагогические инициативы проявлялись в нескольких направлениях: это появление авторских программ по учебным предметам; создание негосударственных школ; выборы руководства в государственных шко- лах; расширение учебных планов школ за счет включения новых предметов (в частности, увеличение числа изучаемых иностранных языков), отказ от школьных микрорайонов и прием в школу на конкурсной основе. Какие-то инициативы имели педагогические обоснования и прижились, какие-то оказались несостоятельными, т.к. были обусловлены скорее интересами не детей, а организации.
Одна из инициатив заключалась в реализации платных образовательных услуг. В тех условиях практика платных услуг хоть как-то помогала улучшить материальное положение учителей. Последствия этой практики оказались различными – надо было ориентироваться на иной характер взаимодействия с родителями, считаться с их запросами; имели место и ситуации создания вынужденного спроса на дополнительные услуги. Уже позднее само понятие «образовательные услуги» стало восприниматься как неприемлемое для оценки педагогической деятельности.
Ситуация нетерпения в 1990-е гг. может стать основой для обсуждения проблемы целей образовательной политики. Если эти цели представляют собой результаты, которых можно ожидать через много лет, они вряд ли станут стимулировать образовательные инициативы педагогов. Реализация краткосрочных целей может дать быстрый результат, но вряд ли приведет к реформированию системы образования. Необходим поиск баланса, взаимосвязи «быстрых» и «отсроченных» результатов.
Изменения в системе образования могут заключаться в развитии (или, наоборот, деградации) ее отдельных качеств. В 1990-е гг. система образования становится более открытой. Это выражается не только в обращении к международному и дореволюционному отечественному опыту, не только в ликвидации ненужных запретов и ограничений, но и в том, что в систему образования приходят новые люди.
На январской встрече данное явление отметил А.Г. Каспржак: «Когда я был депутатом, я понял, как важно обращаться за советами к различным экспертам, чтобы, сравнивая их мнения, принимать управленческие решения». А.Г. Каспржак подчеркнул, что при осуществлении реформ в системе образования управленцам необходимо поговорить с директорами школ, педагогами, родителями. В 1990-е гг. создавались экспертные советы при региональных органах управления образованием, в школах появились заместители директора по опытно-экспериментальной работе, в составе Национального фонда подготовки кадров (который решал вопросы финансирования крупных образовательных проектов) организован Экспертно-аналитический центр. В роли экспертов выступали сотрудники исследовательских институтов, преподаватели высшей школы, специалисты центров повышения квалификации педагогических центров. Практика общественно-профессиональной экспертизы стала важным фактором осмысления педагогической сути образовательных проектов. А.Г. Каспржак обратил внимание на то, что в ситуации реформирования точкой бифуркации становится выбор учебного плана, а в связи с этим и вопрос, кто может влиять на этот выбор и кто в итоге его сделает.
Е.И. Булин-Соколова обратила внимание на другой вариант прихода новых людей в сферу образования – на интерес крупного бизнеса к образовательным инновациям. Она отметила необходимость специального научного анализа этого явления.
Е.И. Казакова, которая в 1990-е гг. осуществляла научное руководство созданием центров психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, указала на важность процесса расширения состава школьных педагогических кадров, в который вошли школьные психологи, социальные педагоги, воспитатели (в негосударственных школах), что привело к новым взглядам на проблемы взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Новые люди пришли и в органы управления образованием. О новых управленцах в Министерстве образования РФ говорится в работе участника встречи А.М. Цирульникова [Цирульников 2021].
А.М. Цирульников считает важным то обстоятельство, что ядро нового Министерства образования составили люди из временного научно-исследовательского коллектива (ВНИК) «Школа», созданного в конце 1980-х гг. по инициативе редактора «Учительской газеты» В.Ф. Матвеева. Этот коллектив разрабатывал новую концепцию и программу развития школы, отстаивал ее в дискуссиях с группой академиков АПН, которая опиралась на поддержку партаппаратчиков. Новых руководителей министерства объединяли не только взгляды на проблемы развития школьного образования, но и, как подчеркивает А.М. Цирульников, их гражданская позиция, что весьма ярко проявилось в дни августовского путча 1991 г. Другое важное обстоятельство, повлиявшее на содержание школьной реформы, начатой новым министерством, заключается, по мнению А.М. Цирульникова (с которым нельзя не согласиться), что новым министром образования стал руководитель ВНИКа Э.Д. Днепров, сочетавший качества педагогического лидера, эффективного менеджера и ученого.
Вместе с тем А.М. Цирульников обращает внимание и на то, что перенос характера отношений, сложившихся в научном коллективе, в управленческую структуру породил ряд сложных проблем, не все из которых удалось решить.
Обращаясь к опыту 1990-х гг., А.М. Цирульников поднял проблему личностного самоопределения в ситуации социальных перемен, поиска своего места в происходящих трансформационных процессах. Об этой проблеме говорили и другие участники встречи. Основную массу участников трансформационных процессов составили люди с советским образовательным опытом, оказавшиеся в ситуации выбора своей собственной профессиональной позиции.
Как заметил А.А. Селянин (директор школы в 1990-е гг., а затем министр образования Карелии), ситуация выбора создавала и новые возможности, и новые риски. То и другое было связано с явлением, которое можно определить как новое педагогическое мышление. Новое педагогическое мышление в 1990-е гг. проявилось в изменении проблематики, которая стала предметом обсуждения в профессиональном сообществе.
Отличия ситуации первой половины 1990-х гг. от конца 1980-х гг. заключаются в том, что предметом обсуждения в 1980-е гг. было должное, а в 1990-е гг. – сущее, т.е. те проблемы, которые рассматривались педагогической общественностью как особо значимые. Ключевые слова, определявшие содержание обсуждаемых проблем: «защита прав детей», «общественная оценка педагогической деятельности», «выбор образовательных программ», «духовно-нравственная атмосфера образовательного учреждения», «иллюзия благополучия», «детоцентристская образовательная система», «демократизация школы».
Новое педагогическое мышление проявилось и в представлениях о педагогических нормах, о том, что обязан делать педагог при любых обстоятельствах и что он не должен делать ни при каких обстоятельствах. Менялось представление и о нормах отношения к самому педагогу, о допустимых и недопустимых ограничениях его профессиональной самостоятельности. На практике допу- стимые (с точки зрения педагога) границы регламентации его деятельности могли нарушаться, и педагог должен был с этим смириться, но, тем не менее, такую ситуацию учитель стал воспринимать как нарушение нормы. Конечно, представления о норме у разных учителей могли существенно различаться, но ориентация на профессиональное самоопределение (хотя бы части педагогов) стала необратимым процессом.
Предметом оценки в профессиональной среде стала цена предлагаемых или даже предполагаемых изменений в образовательной практике. Они оценивались с точки зрения значимости для решения актуальных проблем учителя. Если изменения были связаны с отказом от привычной практики, то оценивалась значимость утраты определенных возможностей; оценивались неизбежные затраты времени на освоение новой практики. Если выигрыш для учителей был неясен или сомнителен, а цена изменений являлась неприемлемой, то наблюдалось сопротивление учителей планируемым переменам или их имитация. В новой ситуации не приходилось рассчитывать на безусловную исполнительность учителей, перед которыми поставили «новые ответственные задачи».
Феномен «нового педагогического мышления» дает основания для вывода о возрастании роли субъективного фактора в развитии трансформационных процессов. Имеется в виду отношение к этим процессам педагогов, руководителей школ и управленческих органов всех уровней. Такое отношение уже в 1990-е гг. было различным, причем какие-то изменения в системе образования могли оцениваться со знаком плюс, а другие – со знаком минус.
В 1990-е гг. в системе образования происходили изменения, которые создавали новые возможности и для учителей, и для организаторов образования. Но представления о новых возможностях могли существенно различаться. Для кого-то это были новые возможности для решения сложных педагогических проблем, для изменения качества образования. Для кого-то на первый план выходили возможности повышения статуса школы, ее места в профессиональном сообществе. Кто-то связывал изменения в системе образования с возможностями профессиональной самореализации. У кого-то доминировали опасения попасть в число консерваторов. В итоге первоначальные цели, которые можно определить как цели-намерения, трансформировались в цели-действия, приводившие к результатам, не всегда совпадающим с исходными ожиданиями.
Как оценить результаты четвертой школьной реформы? В литературе высказывается мнение, что эта реформа потерпела крах, хотя и привела к изменениям, которые критики реформы оценивают как положительные: переход к личностно ориентированному образованию, разработка принципов вариативного образования, обновление содержания гуманитарного образования, появление разнообразных типов учебных заведений, создание базисного учебного плана. Крах реформы связывается с недооценкой роли государства в управлении образовательным процессом. Утверждается, что углубленная работа по обучению самоопределению и самопознанию может проводиться только при поддержке государства [Панина 2022: 98].
Казалось бы, определенные основания для вывода о крахе реформы имеются, если обратиться к обсуждению проблем образования Государственным советом в августе 2001 г. В докладе рабочей группы снова говорится о нерешенных проблемах, о которых шла речь в докладе Министерства образования Правительству РСФСР в 1991 г.: неэффективное содержание общего образования, неэффективная система социально-экономического обеспече- ния педагогических кадров, ставящая их на грань нищеты, неэффективное, предельно бюрократизированное управление образованием. В докладе как ключевая ставилась задача возвращения государства в сферу образования и активизация общественного участия в его развитии. При этом подчеркивалось, что реальным подтверждением возвращения государства в образование станет удвоение финансирования профессионального образования и увеличение финансирования общего образования минимум на 50%.
Можно согласиться с тем, что многие цели реформирования системы образования в 2001 г. не были реализованы. Но, как было отмечено выше, результаты трансформационных процессов не всегда совпадают с поставленными целями. Как заметил один из участников январской встречи П.А. Сергоманов, «замыслы могли быть самыми смелыми, но реальность всегда лишь частично связана с ними». Он подчеркнул, что следствием инициированных изменений могут стать новые ценностные приоритеты.
С этой точки зрения четвертая школьная реформа, оказавшаяся незавершенной, привела к развитию внутрисистемных процессов, о которых говорили участники встречи: это ориентация управленческих решений на достоверные данные, сопоставление тенденций развития национальной системы образования с глобальными процессами, регионализация образования, модернизация содержания образования, индивидуализация образовательных программ, открытость и динамичность системы образования, ориентация на профессиональное самоопределение.
П.А. Сергоманов заметил, что у реформы есть начало, но нет финала в том смысле, что голова все время работает, и однажды полученный импульс, толчок к размышлению, к рефлексии ведет к появлению новых идей. С этой точки зрения серьезная школьная реформа может стать фактором развития педагогической мысли, которая материализуется в образовательных проектах (к ним относится и школа «Универс», одним из создателей которой был П.А. Сергоманов).
Незавершенность реформистских планов 1990-х гг. обычно объясняется внешними факторами – процессами, происходящими в социальной макросистеме, в российском обществе. Очевидно, что эти процессы влияют на изменения в системе образования. Но данная система, как любая крупная социальная система, обладает определенной автономностью, имеет собственную логику развития, свои ценностные приоритеты.
Внутрисистемные процессы, получившие развитие в 1990-е гг., могут стать обратимыми или необратимыми, что зависит не только от внешних, но и от внутренних факторов. В рамках январской встречи на это обратил внимание С.А. Цыпляев, в 1990-е гг. занимавший пост представителя Президента РФ в Санкт-Петербурге. Речь шла о внутренних потребностях системы образования, обусловленных оценкой и реализацией ее социального потенциала.
Система образования, в т.ч. школьного, обладает противоречивыми возможностями. Из школы выходят разные люди – исполнительные и инициативные, конформисты и нонконформисты, любознательные и не проявляющие интереса к познавательной деятельности. Реализация потенциала школы зависит от социального заказа и того, как относится школа к социальному заказу к системе образования. В итоге какие-то возможности этой системы могут быть востребованными или не востребованными.
Не следует забывать, что школа не всемогуща: огромную роль играют врожденные способности детей, семейное воспитание, повседневная социальная жизнь.
Эффективная реализация потенциала системы образования предполагает педагогический анализ социального заказа, оценку его соответствия возможностям системы. Образовательная политика, как отметил Э.Д. Днепров, характеризуется четырехмерной системой координат – политической, социальной, экономической и собственно образовательной. Педагогический анализ образовательной политики включает ответы на ряд вопросов: на какой социальный заказ ориентирована образовательная политика? При каких изменениях в системе образования могут быть решены задачи образовательной политики? В какой мере эти изменения соответствуют логике развития системы образования, ее потребностям? При каких политических, социальных, экономических условиях возможны предполагаемые изменения?
Фактором, объясняющим причины незавершенности реформы в 1990-е гг., был характер образовательной политики, которая стала приобретать ведомственно-отраслевую направленность. В итоге и реальные возможности системы не соответствовали ее педагогическому потенциалу, и имеющиеся реальные возможности не были реализованы в полной мере.
Решающим фактором превращения реальных возможностей системы образования в действительность является управление трансформационными процессами, а среди задач управления на первый план выходит управление отношениями. Такое управление не может осуществляться путем предписаний. Отношениями участников образовательного процесса можно управлять, изменяя отношение к ним со стороны общества, государства и органов управления образованием. Задача управления отношениями имеет много аспектов. Одним из них является отношение участников образовательного процесса к советскому опыту.
Оценивания опыт советской школы, необходимо учитывать такой фактор, как историческая память. В 1990-е гг. всю массу педагогов и родителей составляли те, кто учился в советской школе и у кого имелись собственные воспоминания о своем школьном прошлом. Позиция родителей нередко сводилась к следующему высказыванию: «мы же стали хорошими людьми, значит, и школьное образование было хорошим». Изменения в школьном образовании сопоставлялись со своей школьной практикой и не всегда одобрялись (хотя возможность выбора школы и образовательной программы поддерживалась).
У учителей был опыт преподавания в советской школе. Для кого-то это был опыт собственных методических открытий, встречавших поддержку в профессиональном сообществе, для кого-то – опыт безусловного подчинения учащихся своим требованиям. Достаточно оснований и для вывода о сохранении значимости в постсоветское время многих исследований в области дидактики, выполненных в советский период (И.Я. Лернер, В.В. Краевский, М.Н. Скаткин, Н.Г. Дайри и др.). Более того, сохраняют значимость и многие достижения образовательной практики – стоит вспомнить коммуну юных фрунзенцев в Ленинграде, учителей-новаторов В.Ф. Шаталова, Е.И. Ильина и других педагогов. Представляют интерес «инновационные волны» послевоенных лет, проявившиеся в массовой образовательной практике («липецкий опыт»; проблемное обучение, оптимизация учебно-воспитательного процесса, педагогика сотрудничества). Этим и другим достижениям советской школы было в постсоветский период уделено недостаточное внимание.
В первой половине 1990-х гг. в системе образования доминировали стихийные трансформационные процессы. Инициативы «снизу» чаще всего были связаны со стремлением школы (и других образовательных учреждений)
иметь «лица не общее выраженье», определить свою индивидуальность. Оно находило отражение в различных декларациях, характеризующих профессиональную позицию педагогического коллектива. Такая декларация была своего рода «протоколом о намерениях» придерживаться определенных принципов и целевых ориентиров.
Возможность и значимость «низовых инноваций» подчеркивали И.Д. Фрумин, Е.И. Казакова, П.А. Сергоманов. Реформирование системы школьного образования приобретало характер общественно-профессиональной деятельности.
В 1996–2001 гг. получает распространение практика проектирования. Заявленные проекты могли не обладать всеми признаками действительного проекта, но в любом случае они были попыткой «взгляда вперед» на основе определения собственных (а не предписанных) задач развития образовательной системы.
Барьером для расширения масштабов и углубления задач инновационной деятельности стал гипотетический характер образовательных проектов: безусловными были ресурсные затраты на реализацию (включая затраты времени и усилий), а ожидаемые результаты, имеющие существенное значение для учителя, были предполагаемыми.
На опыте 1990-х гг. можно сделать вывод, что конечными благополучателями школьной реформы должны быть дети, но ближайшими благополучателями – учителя.
Ориентация на многообразие образовательных программ, индивидуальность школ создает не только предпосылки для повышения качества образования за счет его персонализации, но и риски для развития профессионального сообщества: рейтинги школ, конкуренция оказываются важнее сотрудничества в решении общих социальных и педагогических проблем.
Такие проблемы приобретают особую остроту в ситуации смены социальных идеалов. В этой ситуации именно школы могли бы определять нравственные стандарты общества, демонстрируя примеры честности, справедливости, гуманизма. О важности этой роли школы на встрече экспертов говорил А.В. Шишлов, который в нулевых годах был председателем думского Комитета по образованию.
Анализ изменений в школьном образовании, происходивших на начальном этапе становления постсоветской школы, важен для «взгляда вперед», потому что он позволяет выявить дискуссионные вопросы сегодняшнего дня. Об этом говорила Е.И. Казакова, отметив ряд ситуаций выбора: право учителя «на свою упаковку» предметного содержания и его границы; общественно-государственное управление образованием и государственно-общественное управление образованием; директор школы – педагог или менеджер; сохранение сельской школы или обучение сельских детей в городской школе; основа для проектирования образовательной системы – должное или сущее. Перечень ситуаций выбора можно продолжить. Опыт 90-х гг. показал необходимость видеть ситуации выбора на любом уровне – от национальной системы образования до учителя.
Оценить замысел четвертой школьной реформы и ее результаты могут независимые исследователи, не имеющие непосредственного отношения к самой реформе. Сделать выводы об уроках реформы могут только ее непосредственные участники, способные объяснить мотивы и цели своих действий, соотнести ожидаемые и реальные следствия собственной деятельности (в т.ч. и ситуации, когда «хотели, как лучше, а получилось...»).
Результатом встречи стала договоренность о создании сборника очерков об уроках четвертой школьной реформы, которые представляли бы собой взгляд назад ради взгляда вперед, когда снова возникает потребность в осмыслении актуального образовательного опыта и определении перспективных путей развития системы образования.
Список литературы Образовательная политика в 1990-е годы: результаты и уроки
- Днепров Э.Д. 1994. Четвертая школьная реформа в России. М.: Интерпракс. 241 с.
- Лебедев О.Е. 2022. Воспитание в школе: диалектика прошлого и будущего. СПб: СПбГУП. 356 с.
- Панина Л.Ю. 2022. Государственная идеология и цели воспитания в СССР и в России (1985-2022). - Педагогика. № 11. С. 93-109.
- Российское образование в переходный период. Программа стабилизации и развития (под ред. Э.Д. Днепрова, В.С. Лазарева, В.С. Собкина). 1991. М.: Изд-во Министерства образования РСФСР. 334 с.
- Учитель, который работает не так: (Опыт развития индивидуальности учеников и учителей в массовой школе): сборник статей (под ред. А.Н. Тубельского). 1996. М.: Парсифаль. 336 с.
- Цирульников А.М. 2021. Из тайных архивов русской школы. История образования в портретах и документах. М.: ИД «Дело» РАНХиГС. 504 с.