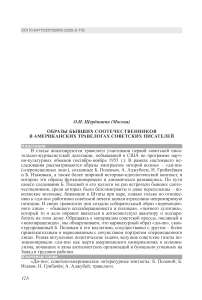Образы бывших соотечественников в американских травелогах советских писателей
Автор: Щербинина О.И.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются травелоги участников первой советской писательско журналистской делегации, побывавшей в США по программе научно культурных обменов (октябрь ноябрь 1955 г.). В рамках настоящего исследования рассматриваются образы эмигрантов «второй волны» - «ди пи» («перемещенных лиц»), созданные Б. Полевым, А. Аджубеем, Н. Грибачёвым и Б. Изаковым, а также более широкий историко идеологический контекст, в котором эти образы функционировали и динамически развивались. По пути своего следования Б. Полевой и его коллеги не раз встречали бывших соотечественников, среди которых были белоэмигранты и даже переселенцы - поволжские молокане, бежавшие в Штаты при царе, однако только по отношению к «ди пи» работники советской печати заняли агрессивно непримиримую позицию. В своих травелогах они создали собирательный образ «перемещенного лица» - «бывшего коллаборациониста и полицая», «пьяного хулигана», который то и дело норовит ввязаться в антисоветскую авантюру и подзаработать на этом денег. Обращаясь к материалам советской прессы, писавшей о «невозвращенцах», мы обнаруживаем, что карикатурный образ «ди пи», сконструированный Б. Полевым и его коллегами, сосуществовал с другим - более привлекательным и нарисованным с сочувствием портретом «перемещенного лица». Решая актуальные политические задачи, ведущие советские газеты позиционировали «ди пи» как жертв американского империализма и колониализма, попавших в лапы антисоветских организаций и буквально угнанных на Запад в трудовое рабство.
Ди пи», советско американские литературные контакты, б. полевой, б. изаков, н. грибачёв, а. аджубей, травелоги
Короткий адрес: https://sciup.org/149148609
IDR: 149148609 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-178
Текст научной статьи Образы бывших соотечественников в американских травелогах советских писателей
“DP”; Soviet-American literary contacts; B. Polevoy; B. Izakov; N. Gribachev; A. Adzhubei; travelogues.
С приходом «оттепели» и возобновлением научных, туристических, культурных контактов с США машина советской пропаганды взяла курс на смягчение агрессивных практик, сложившихся в ходе сталинской антизападной кампании рубежа 1940–1950-х гг. Начало спокойного и глубокого разговора об Америке было положено советскими журналистами, писателями и деятелями искусства – миссионерами «доброй воли». После долгого десятилетнего перерыва (последняя писательская делегация в составе К. Симонова, И. Эренбурга и М. Галактионова побывала в США перед началом холодной войны весной 1946 г.) в октябре 1955 г. по приглашению Госдепартамента в Америку отправилась первая советская писательская делегация. За тридцать три дня семеро работников ведущих периодических изданий (Б.Н. Полевой, Б.Р. Изаков, А.И. Аджубей, Н.М. Грибачёв, А.В. Софронов, В.В. Полторацкий, В.М. Бережков) пересекли страну от океана до океана.
По результатам командировки ее участники планировали издать коллективный труд – проект не был реализован, но каждый из них написал собственный материал об Америке. Этот корпус текстов включает в себя три книги («Семеро в Америке» Н. Грибачёва, «Американские дневники» Б. Полевого, «Серебряная кошка» А. Аджубея), а также объемные главы, вошедшие в сборники «На пяти материках. Впечатления и встречи» (1958) А. Софронова и «Летучие годы, дальние края» (1988) Б. Изакова.
Травелоги участников делегации Б. Полевого мало чем отличаются друг от друга. В них описываются одни и те же происшествия, люди, локации – зачастую в идентичных выражениях. Кроме того, травелоги сходны по настроению и ритмике. В них вояжеры предстают ироничными, любопытствующими, остроумными путешественниками, которые пытаются надурить приставленных к ним сотрудников спецслужб и увидеть все лучшее, что есть в стране.
Американским травелогам советских писателей посвящено немало академических работ, однако по большей части они ограничиваются материалом первой половины XX в. (среди наиболее тщательно изученных текстов назовем «Железный Миргород» С. Есенина, очерки В. Маяковского, «Одноэтажную Америку» И. Ильфа и Е. Петрова – см., например, раздел «Советские писатели в Америке» спецвыпуска журнала «Литературы Двух Америк» (№ 3, 2017)). Обращаясь к «оттепельному» периоду, который, в отличие от периода довоенного и позднесталинского, мало исследован, мы выбираем для анализа травелоги, еще не привлекавшие внимание ученых.
Вслед за Е. Пономаревым, который апробировал методы постколониальной критики на материале советских путешествий [Пономарев 2013], мы исходим из представления, что советские травелоги, являясь частью соцреа-листического дискурса, имеют явную идеологическую нагрузку. Впечатления от Америки в этих текстах не просто описания, а способ транслировать определённую систему ценностей, в том числе – через изображение «другого». В статье мы проанализируем образы эмигрантов «второй» волны («ди-пи»), созданные Б. Полевым и его коллегами, а также рассмотрим историко-идеологический фон, на котором эти образы функционировали и динамически развивались. В данном случае даже без прямого колониального контекста теоретическая рамка постколониальной критики оказывается уместной: она помогает понять, как власть и идеология говорят от имени «нормы», а «другой» (который когда-то был «своим») превращается в тень, карикатуру и маргинала.
Для анализа репрезентации «ди-пи» в травелогах Полевого, А. Аджубея, Б. Изакова, Н. Грибачёва мы будем обращаться к публицистике, написанной советскими вояжерами по «горячим следам» своего турне, а также другим релевантным материалам прессы, мемуарам и архивным документам (отчет о поездке, направленный в Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС).
***
Б. Полевой и его коллеги призывали трактовать свои американские тра-велоги в нефикциональной, документальной плоскости, не различая реальное путешествие и рассказ о нем. Так, в предисловии к «Американским дневникам» Б. Полевой подчеркивал их фактографическую точность:
Давно еще, с фронтовых времен, я предаюсь пагубной страсти писания дневников <…> то, что журналисту доводится видеть, кажется порой до того интересным, что боишься, как бы потом, когда это понадобится для работы, не забыть каких-либо подробностей или деталей. <…>
Когда мы вернулись домой, меня попросили: напиши книгу. Это легко сказать книгу. Мы пробыли за океаном всего тридцать три дня. Вот и пришла мне в голову мысль опубликовать американские записи, сделанные для себя, по горячим следам событий [Полевой 1956, 3].
Кроме того, книги вояжеров во многом строились на цикле статей, опубликованных в журналах и газетах, от которых они были командированы в
Штаты. Очерки Н. Грибачёва появлялись в специальной рубрике на страницах «Литературной газеты», Б. Полевого – в «Правде», В. Полторацкого – в «Известиях», Б. Изакова – в «Советском искусстве» и «Международной жизни», А. Софронова – в «Огоньке», В. Бережкова – в «Новом времени». Эти материалы вошли в травелоги без дальнейшей редакторской правки, что сделало границу между травелогами и публицистикой еще более зыбкой и размытой. Поэтому неудивительно, что образы бывших соотечественников, созданные вояжерами в их книгах путешествий, были восприняты не как «литературные портреты», а как порочащие честь и достоинство карикатуры на реальных лиц.
«Ди-пи» (displaced persons) – «перемещенные лица», в том числе, военнопленные, остарбайтеры, коллаборационисты, оказавшиеся за пределами СССР после окончания Второй мировой войны. Реальные «ди-пи», которых Б. Полевой и его коллеги встретили в США, являлись «невозвращенцами», поскольку основная часть «перемещенных лиц» уже к 1945 г. была репатриирована в СССР в рамках Ялтинских соглашений. Поливая грязью «ди-пи», осевших в Штатах, советские журналисты транслировали точку зрения, широко распространенную среди основной массы советского народа. В соответствие с ней «невозвращенцы» были «предателями Родины», «изменниками», «врагами» [Земсков 2016, 155]. Тем не менее, официальная позиция политического руководства страны касательно «ди-пи» была более неоднозначной. Во времена сталинской антизападной кампании рубежа 1940–1950-х гг. о «перемещенных лицах» в советской прессе вышел ряд статей, в которых их позиционировали как жертв американского империализма и колониализма. Советская пропаганда писала об эмигрантах как о жертвах колониальной политики, поскольку правительство США препятствовало проводимой СССР репатриации и использовало эмигрантов как рабочую силу в самых низкооплачиваемых секторах экономики. Так, в «Известиях» сообщалось, что бывших советских граждан «по приказу американцев насильно удержали от возвращения на родину» в европейских лагерях для «ди-пи», а затем вывезли в заокеанские страны [Михайлов, Семенов 1952], другими словами, угнали в рабство. Этот процесс иллюстрировался жуткими частными примерами. «Известия» рассказывали о случаях, когда советских граждан, обращавшихся к американским властям с просьбой о репатриации, помещали в психиатрическую больницу, «унижали и пытали (sic!) в американских застенках», доводили до самоубийства [Михайлов, Семенов 1952].
Практически накануне поездки семерых в Америку, в СССР был принят указ «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (17 сентября 1955). На эти меры советское руководство пошло, мечтая ускорить темпы репатриации, которая к «оттепельным» временам практически сошла на нет, и добиться эффекта разложения «антисоветской эмиграции» [Земсков 2013, 111]. Как и в сталинские времена, в прессе продолжали появляться материалы, в которых предпринималась попытка обелить и оправдать «ди-пи». Их выставляли бесправными жертвами дезинформации, а не идейными врагами социалистического строя. Они оказались в Америке не по собственному желанию, а потому что антисоветские организации убедили «измучавшихся на чужбине людей» в том, что «на родине их ждет казнь или вечная ссылка» [Муратов 1956]. Эта интерпретация преследовала важную цель: не допустить даже намёка на то, что отказ от советской родины может быть осознанным и рациональным выбором.
Однако в травелогах Б. Полевого и его коллег звучит иной тон: они описывают «невозвращенцев» с явной враждебностью, как предателей, морально сломленных, презренных отщепенцев. Такое расхождение едва ли свидетельствовало о том, что Б. Полевой, Б. Изаков, Н. Грибачёв и другие шли вразрез с партийным дискурсом. Скорее, их позиция отражает более широкий тренд позднего сталинизма – тенденцию к дискредитации и стигматизации всех, кто оказался за пределами советской системы независимо от причин. Кроме того, возможная причина открыто негативного отношения к «перемещенным лицам» кроется в том, что надежд на их возвращение из-за океана «чиновники ведомства пропаганды» не питали, а значит, могли вести против них агрессивную кампанию.
Впервые столкнуться с «ди-пи» делегатам пришлось в Кливленде. Недовольные пребыванием советских журналистов в Америке, «перемещенные лица» оцепили отель, в котором они остановились, и устроили пикет, грозивший перерасти в расправу. Этот реальный инцидент получил неоднозначные оценки в американской прессе. С одной стороны, практика бойкота советских «миссий доброй воли» была широко распространена на Западе. Когда бы в Штаты ни приезжали советские писатели и деятели культуры, их непременно поджидали протестующие с плакатами «Niet Tovarich!», «Коммунистам здесь не рады», «Проваливайте» [Рождественский 1971, 125]. Ненависть пикетчиков – бывших выходцев из стран соцлагеря, к Советской России, партии и коммунизму поощрялась американцами, боровшимися с «красной угрозой» на протяжении 1950-х гг. С другой стороны, даже консервативные газеты, наподобие «Salt Lake Tribune», обращали внимание на то, что «иммигранты, которые и сами являются здесь гостями, обязаны в приютившей их стране проявлять сдержанность» в отношении других гостей Америки [Guests in Our Country 1955].
Для дискредитации «ди-пи» и создания их отталкивающего образа в своих травелогах советские писатели использовали целый арсенал пропагандистских и художественных приемов.
Во-первых, «перемещенные лица» лишались субъектности. По выражению Б. Полевого, они были лишь «статистами», разыгрывавшими спектакль, придуманный в Вашингтоне [Полевой 1956, 116]. На «отвратительную выходку» в Кливленде они отважились не по собственной инициативе, а по указанию «хозяев» – кураторов из ЦРУ.
В докладе для Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС семеро подчеркивали:
Насчёт организованности всех этих, якобы стихийных, выступлений у нас не было никаких сомнений, ибо они всегда следовали за самыми тёплыми и дружественными приёмами, оказанными нам, и несомненно, имели целью нейтрализовать то политическое впечатление, которое производило появление делегации в том или другом штате [цит. по Щербинина 2024, 310].
Во-вторых, в абсолют возводилось зависимое материальное положение «ди-пи». В Америке бывшие советские граждане попали в долговую кабалу: они были вынуждены перебиваться на черных работах и радоваться «несытному корму, выдаваемому в виде пособий» [Полевой 1956, 116]. На протяжении 1950-х гг. это представление о нищенской жизни эмигрантов широко муссировалось в советской прессе. Читателям «Известий» сообщалось, что «ди-пи» пали жертвами обмана «частных организаций», таких как ЮСЕН, Всемирный церковный совет, Толстовский фонд, Американский комитет по освобождению от большевизма. Поверив в «американскую мечту», «ди-пи» оказались завербованы на тяжелые, опасные и низкооплачиваемые работы» [Короткевич 1956] в шахтах и тропических лесах. Пример «перемещенных лиц» был грозным предостережением советскому гражданину: на Западе эмигрант-невозвращенец станет рабом, оторванным от родины и радостного коллективного труда. Хуже того – его завербуют в шпионы и прикажут отрабатывать «подачки», клевеща на бывшую родину и устраивая демонстрации наподобие той, что произошла в Кливленде.
Касьян Прошин (псевд. Анатолия Петровича Беклемишева, 1890–1959) – инженер, публицист, «перемещенное лицо», выступил на страницах эмигрантской антикоммунистической газеты «Новое русское слово» с занятным комментарием по поводу рисуемого Б. Полевым и его коллегами положения «ди-пи» в Америке:
– Вот, прочти, – сказал я Ивану Михайловичу, бывшему «ди-пи», – советское правительство тебя амнистировало, чего ж ты «здесь околачиваешься»?
– Из-за самой малости. Оно меня амнистировало, но я его не амнистировал. <…>
– Очень эксплуатируют тебя здесь на черных работах?
– Черную работу в каждой стране кто-нибудь да исполняет, зазорного в ней ничего нет. Постыдна не черная работа, а та, которой занимаются советские мастера лжи. Впрочем, большинство моих знакомых, бывших «ди-пи», давно уже не занимаются черной работой [Прошин 1959].
В данной статье мы не беремся ставить вопросы социологического характера, а именно, привольно ли жилось «перемещенным лицам» в Америке, какую работу они реально могли получить на Западе и сколько на ней заработать. Мы лишь демонстрируем, как на риторическом уровне – в литературе и публицистике, выстраивалась мифология о жизни эмигрантов «второй волны».
Для возгонки антиэмигрантских настроений советские писатели апеллировали к военному прошлому и указывали, что «ди-пи» – «прихвостни Гитлера, злодействовавшие на оккупированных территориях. Скрываясь от возмездия, они бежали за океан, и в Америке их гостеприимно приютили» [Изаков 1988, 286]. Как отмечают историки, в послевоенное время представление о том, будто карателям, полицаям и другим пособникам нацистов удалось скрыться заграницей, было широко распространено [Земсков 2016, 156]. Отсюда – общественный запрос на справедливое отмщение, и как следствие – требование обязательной репатриации всех интернированных лиц. Однако с началом холодной войны в пику советскому правительству и вопреки Ялтинским соглашениям «улыбающийся человек в очках, самый влиятельный доброжелатель из Белого дома» [Фесенко 1959] гостеприимно распахнул двери Соединенных Штатов для трехсот двадцати тысяч новых американцев. Отношение советских делегатов к этой беспрецедентной программе по переселению «ди-пи» в США было негативным. Как бывший фронтовик, Б. Изаков находил американское гостеприимство неуместным, поскольку им смогли воспользоваться «гитлеровские вояки». Он подчеркивал:
…демонстрация фашистских головорезов против вчерашних союзников по антигитлеровской коалиции отнюдь не может служить свидетельством демократизма Америки [Изаков 1988, 287].
Не изменяя «духу Женевы», Б. Полевой уточнял, что простые американцы не виноваты в том, как коварно «ди-пи» воспользовались их гостеприимством. В Штатах они подвизались на работу в антисоветских организациях и стали сеять вражду между народами. Свои «иудины гроши» эти «потерявшие совесть и честь подонки» [Полевой 1956, 115–116] отрабатывали, способствуя разжиганию холодной войны.
-
Н. Грибачёв высказался еще в более оскорбительных выражениях, описывая встречу с прибалтийским журналистом – «он работал в фашистской печати во время гитлеровской оккупации и “переместился” за океан, убегая от расплаты за преступления против собственного народа» [Грибачёв 1958, 31]. Грибачёв сравнивал «ди-пи» с клопами, которые, «спасаясь от кипятка», забрались в американскую квартиру. Теперь же, когда в Штаты нагрянули советские гости, хозяевам квартиры неприятно, что в щелях их дома гости увидели «такого рода насекомых» [Грибачёв 1958, 31].
В целом, подобное расчеловечивание врагов было излюбленным приемом советских пропагандистов. Вспомним, как по другому поводу Н. Грибачёв обзывал Г. Фаста – писателя и лауреата Сталинской премии мира, «надоедливой мухой, внушающей желание решить санитарную проблему» [Грибачёв 1958]; или как А. Вергелис, побывавший в Штатах в 1963 г., уподоблял своих американских коллег «мелким букашкам из доморощенной черты оседлости», которые «кочевряжатся», в огромном мрачном лесу Нью-Йорка [Вергелис 1979, 48].
Кроме того, Б. Полевой и его коллеги примечали, что многие «ди-пи» потеряли человеческий образ и превратились в животных из-за крайней степени алкоголизации. Упражняясь в изобретении оскорблений, А. Аджубей обзывал пикетчиков Кливленда «пьяными хулиганами», которые на своих «драных автомобилях» сбились в «перепуганное стадо ослов» [Аджубей 1956, 46], а Б. Полевой, описывая ревущую толпу протестующих, заметил в ее рядах лишь «пьяные, искаженные злобой морды, которые дышали отвратительным перегаром» [Полевой 1956, 115].
В связи с выпадами «семерых» по поводу «пьяных хулиганов», «Новое русское слово» сообщало:
Несколько читателей нашей газеты, видевших в воскресенье на телевидении выступление советских журналистов, звонили нам по телефону, чтобы обратить внимание редакции на то обстоятельство, что тов. Полевой во время своего выступления был явно в нетрезвом виде [Полевой называет русских пикетчиков «пьяными хулиганами»].
Придерживаясь последовательно антисоветской позиции, «Новое русское слово» защищало «перемещенных лиц» от нападок Б. Полевого и его коллег. Вступаясь за них, К. Прошин писал:
Ругают они этих «ди-пи», а у одного из них старик отец оказался в Америке среди этих самых «ди-пи». Читает старик газеты, смотрит в журналах снимки, видит сына на экране телевизора, а встретиться с ним не может. Как бы не повредить карьере сына. Так и умер старик, не повидав сына, приезжавшего в Америку. Проклятая диктатура разлучает сыновей с родителями и жен с мужьями [Прошин 1959].
В этом пассаже речь идет об отце В. Бережкова, который бежал на Запад после того, как оккупированный нацистами Киев был освобожден Красной ар- мией. Неизвестно, был ли он угнан немцами или добровольно решил покинуть родину, понимая, что после пребывания на оккупированной территории его ждут новые неприятности по возвращении советской власти. Так или иначе, но о его судьбе стало известно Берии, из-за чего В. Бережков потерял работу в Наркоме иностранных дел (во время войны он был переводчиком Молотова и Сталина и в качестве такового участвовал в Тегеранской конференции). В своих мемуарах он сообщал:
Потом, много позже, я узнал, что отец и мать, не желая подвергать меня риску, сменили фамилию, зарегистрировавшись под девичьим именем матери. При всем своем непростом жизненном опыте они тут проявили поразительную наивность. Вокруг них оказалось достаточно информаторов, без труда раскрывших их хитрость. В дальнейшем эта «предосторожность» родителей лишь подзадорила Берию [Бережков 1993].
Судьбу отца Бережкова, пережившего революцию, голод, войну, разделяли многие «ди-пи», но о хитросплетениях их судьбы не упоминал ни один из семерых делегатов. В своих «оттепельных» травелогах Б. Полевой и его коллеги создали из «перемещенных лиц» плакатный образ врага советской власти – пьяного хулигана, который то и дело норовит ввязаться в антисоветскую авантюру и подзаработать на этом денег. Такое представление о невозвращенцах окажется очень живучим и впоследствии не раз будет воспроизведено в более поздних травелогах советских писателей, посетивших Штаты.