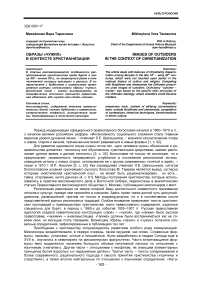Образы «чужих» в контексте христианизации
Автор: Михайлова Вера Тарасовна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 2, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности распространения христианства среди бурят в конце XIX - начале XX в., не затронутые ранее в отечественной истории культуры и религии. В соперничестве с буддизмом и шаманизмом православные риторы использовали образы «чужих». Дихотомия «свой - чужой» выстраивалась на специфических этических принципах православной идеологии, где «чужой» мог стать «своим».
Миссионерство, содержание текстов нравоучительных бесед, "чужие" буддисты и шаманисты, соперничество конфессий, риторические приемы, трансформации в этнической культуре
Короткий адрес: https://sciup.org/14935181
IDR: 14935181 | УДК: 008+17
Текст научной статьи Образы «чужих» в контексте христианизации
Период модернизации официального православного богословия начался в 1860-1870-е гг., с началом великих российских реформ. «Интенсивность социального служения стала главным мерилом уровня духовной жизни, - отмечает Л.Е. Шапошников, - возникли схоластические споры о новом, старом и вечном, причем вечное может развиваться в новые формы» [1, с. 92].
Для развития церковного языка нужны сотни лет, «для человека нужны объяснение и доказательства догматов», поскольку они обусловлены «умственными средствами, какими располагает данное время и данная личность» [2, с. 35]. Богословие не только не исключает, но и предполагает «возможность непрерывного углубления в постижение религиозной истины, освещение истины с новых сторон, согласование ее с кругом современных понятий и идей», -писал в 1910 г. И.П. Николин [3, с. 53]. Как справедливо отмечает Л.Е. Шапошников, «итогом богогословских исканий крупнейшего русского богослова М. Тареева является вывод, согласно которому «мистический христианский опыт… не может быть рационализирован… он есть… тайна, откровение, нечто данное» [4, с. 61]. Методы постижения христианства, которые использовались в практике миссионерского дела в Восточной Сибири, перечислены в аналитических статьях Православного миссионерского общества (г. Москва), публикациях миссионеров с мест.
Религиозная революция не имела опорной базы достаточного совместного проживания этносов и культур, прежде чем произойти в сознании. Здесь нужен также долгий путь дискуссий, диалогов, размышлений, причем не только в индивидуальном, но и в коллективном опыте представителей разных религиозных традиций. Особое внимание привлекают тексты христианских проповедей о преимуществах христианства, книги православного содержания, изданные специально для бурят, в период с 1860-х до событий 1905-1907 гг. Русская православная идеология создала семантическую конструкцию «свой» – «чужой», где «своим» было русское православие, «чужими» – инакомыслящие. «Чужие» должны были восприниматься как не совсем свои, но могущие стать таковыми. Возникшие образы «своих» и «чужих» получили словесные определения, зафиксированные в публикациях тех лет.
Приобщение к христианству сопровождалось развитием особого рода коммуникаций. Миссионеры воздействовали, в первую очередь, таким орудием, как слово. Словесные формулы, призывы, установки, устные и письменные, были разработаны в недрах Синода еще в XVII в., изучались в семинариях на миссионерских факультетах. Часто встречающиеся формулы явно выделяются наличием большого объема негативной лексики по отношению к язычникам («негатив»). Другие части – отношением к неофитам, не знающим элементарных принципов бытия взрослых («к неразумным детям»). Третья часть – тексты сопереживания и более современного, рационального подхода к смыслу принятия христианства («причины и следствия»), а также вполне нейтральные по отношению к язычникам определения. «Нега- 163 - тив» - традиционная установка на «поношение» языческих религий, приведение доказательств тождественности Дьявола и идолов буддизма и шаманизма. Оскорбление язычества было характерно для проповедей XVII в., гневные филиппики и грубые сравнения в адрес инакомыслящих должны были в яркой форме, эмоционально и образно клеймить «чужих». Практика показывала очевидную зависимость от лингвистической составляющей христианского служения. Таким образом, в реальной миссионерской практике очевидно усматривался практицизм, намечались тенденции к разрыву православных традиций, уклонение в протестантизм с его активно продвигавшейся теорией социального служения.
Смысл праздника Пасхи рассматривается с точки зрения смысла жизни и смерти. Вениамин, архиепископ Иркутский, в «Огласительном поучении готовящимся ко крещению язычникам» (Иркутск, 1890), обращался к язычникам-бурятам как к начинающим новую, истинную жизнь, используя традиционные риторические приемы. Ламские бурханы и шаманские онгоны <предметы культа> – идолы, а кто идолам молится, тот предает себя Диаволу. Акт крещения символически смывает все прошлые грехи человека, очищает его сознание для новой духовности.
В 1902 г. Православное миссионерское общество официально публикует мнение о том, что «понятия о вере и жизни христианской» [3, с. 23] в среде инородцев приживаются с огромным трудом. Миссионеры месяцами разъезжают по улусам с опасностью для здоровья и жизни. Среди причин, мешающих распространению православия, назывались также: 1. «Умственная неразвитость бурят и тунгусов, которые выше своих животных потребностей, ничем не интересуются». 2. Увеличение количества налогов для крещеных. 3. Выходцы из Монголии – «гыганы и хубилга-ны» поддерживают у бурят «тяготение к Урге и Тибету». 4. Бедность миссионерских храмов в сравнении с буддистскими. 5. «Насмешки» со стороны сородичей над крещеными. 6. «Ламская» медицина служит могущественным орудием поддержки «ламайской» веры. 7. Влияние некрещеных родовых старейшин, богатых «язычников» [6, с. 41-43]. Миссионеры признавались, что буддийские ламы «объявили себя равными во всем православному духовенству» [7, с. 42]. Тезис о первенствующей в государстве религии – православии – настойчиво опровергался событиями, повернувшими вектор инноваций в религиозной культуре бурят в сторону буддизма.
Земледелие как символ привязанности православного крестьянина к корням, к матери-земле, дающей хлеб насущный, не стало для крещеных бурят знаковым символом приобщения к христианству. Бурятское население имело свои традиции питания, отличавшиеся от питания русских крестьян. Религия и хозяйственные занятия, завязанные друг с другом, определяли формы быта, индивидуальный практический жизненный опыт врастал как часть структуры культурного и языкового пространства.
Определение «инородцы» произошло от двух слов – «иной», или «чужой», и «род», «родиться». Тот, кто родился «чужим», стал таковым по причине, не зависящей от него самого. Человек, как известно, не выбирает ни места своего рождения, ни родителей, ни расовой и этнической принадлежности. Рожденный иным, но не чужестранец; иной по рождению, как данность, - смысл этого определения. Инородческие образ жизни, привычки, одежда, еда были порождением природы и культуры. «Чужие» могли стать «своими» в новом духовном обличье, и такую возможность давало христианство, провозглашавшее единство всех перед Богом.
Теоретическая модель христианства возможности унификации человеческих сообществ в духовном измерении необычайно продуктивна и наполнена динамикой изменений, это фундамент миссионерской идеи. Духовное единство, но не критерий религиозности объединяет людей. Свобода постижения божественного откровения проявляется не в форме обрядности, мнимой воцерквленности, а в работе души, ее психическом содержании наполнении, рефлексии окружающего пространства.
Актуализация моральных принципов миссионерской деятельности в пореформенный период не акцентировались, в то время как новое пространство социума, изменившиеся взаимоотношения между индивидами и группами требовали инновационного поведения и институционально оформленных характеристик модели поведения. Игра с негативными определениями, клеймением язычества не дала нужных результатов, она явно отражала мышление православной ортодоксии XVII в.
Ссылки:
-
1. Шапошников Л.Е. Консерватизм, новаторство и модернизм в православной мысли XIX–XX вв. Н. Новгород, 1999.
-
2. Там же.
-
3. Там же.
-
4. Там же.
-
5. Состоящее под августейшим покровительством Государыни Императрицы Всероссийское Православное миссио
нерское общество в 1901 г. М., 1902.
-
6. Там же.
-
7. Там же.