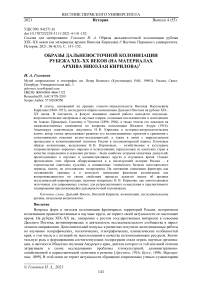Образы дальневосточной колонизации рубежа XIX-XX веков (на материалах архива Николая Кирилова)
Автор: Головнев И.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История в дискурсивных практиках, образах и нарративах
Статья в выпуске: 4 (55), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье, основанной на архивах ученого-энциклопедиста Николая Васильевича Кирилова (1860-1921), исследуются образы колонизации Дальнего Востока на рубеже XIX-XX веков. В частности, в фокусе внимания данной работы находятся визуально-антропологические материалы и научные очерки, созданные исследователем в экспедициях по Аляске, Приморью, Сахалину и Чукотке (1896-1904), а также тексты его докладов на межведомственных совещаниях по вопросам колонизации Нижнего Амура (1916). Анализируя тематические документы Н. В. Кирилова в историко-антропологическом ключе, автор статьи прослеживает развитие его колонизационных проектов в сравнении с сопоставимыми опытами коллег-исследователей, а также в связи с параллельными процессами в колонизационной политике России в позднеимперский период. Ключевые образы колонизации, выделенные Н. В. Кириловым, - хозяйственное и культурное «перевоспитание» коренных народов и использование переселенцев из азиатских стран в качестве посредников в освоении региона - были наиболее острыми сюжетами дискуссий, происходивших в научных и административных кругах в изучаемое время. Однако преломления этих образов обнаруживаются и в последующей истории России - в строительстве советских культбаз, в инициативах этнического бизнеса постсоветского периода, вплоть до сегодняшних госпрограмм. На основании концепции фронтира как «подвижной» границы и в контексте понимания феномена колонизации как воспроизводящегося по своим свойствам процесса делается вывод об архивах исследователей-первопроходцев, включая материалы Н. В. Кирилова, как многоплановых источниках для современных ученых для ретроспективного осмысления и перспективного планирования продолжающейся дальневосточной колонизации.
Дальний восток, николай кирилов, колонизация, исследовательские архивы, визуальная антропология
Короткий адрес: https://sciup.org/147246390
IDR: 147246390 | УДК: 930: | DOI: 10.17072/2219-3111-2021-4-141-152
Текст научной статьи Образы дальневосточной колонизации рубежа XIX-XX веков (на материалах архива Николая Кирилова)
Вопросы форм и методов колонизации фронтирных территорий России, исторически волновавшие правительственные и научные круги, не теряют своей актуальности по настоящее время. На рубеже XIX–XX вв., синхронно с ростом государственных интересов в освоении Дальнего Востока, активизировалась и деятельность исследовательского сообщества в параллельном направлении. Дополнительный импульс к развитию получили экспедиционные работы по изучению географических, геологических, этнографических, климатических особенностей края, в том числе и с позиций их использования в качестве колонизационных ресурсов. Значительную роль в формировании соответствующих госпрограмм стали играть научные организации, в частности Общество изучения Амурского края, деятели которого в той или иной степени затрагивали в своих исследованиях проблемы этнокультурной, административнохозяйственной и переселенческой политики в регионе [ Арсеньев , 1916; Буссе , 1896; Маргаритов , 1899]. В этой связи не теряет актуальности обращение современных ученых-гуманитариев
к исследовательским архивам: в них содержатся как ретроспективные тематические разработки, так и научные «завещания» первопроходцев освоения «далекой окраины», представляющие ценность для осмысления сегодняшнего этапа эволюции колонизационных процессов. Предлагаемая статья фокусируется на одном из подобных примеров – архиве Н. В. Кирилова – ученого-энциклопедиста, посвятившего свою деятельность разностороннему изучению Восточной Сибири и Дальнего Востока. Данный архив содержит яркие визуальные и текстовые образы дальневосточной колонизации на рубеже XIX–XX вв.
В силу разносторонности своих исследований Н. В. Кирилов оставил обширное творческое наследство: в специализированных журналах было опубликовано около полутора сотен его научных статей по вопросам антропологии, медицины, метеорологии, этнографии [ Кирилов , 1893, 1913]. Работы, посвященные биографии, врачебной и этнографической деятельности Н. В. Кирилова, были выпущены его современниками и исследователями последующих поколений: в 1906 г. обзорный очерк о нем опубликовал известный дальневосточный историк Н. П. Матвеев [ Матвеев , 1906], в 1922 г. подробные воспоминания о своем учителе и друге составил В. К. Арсеньев (ОИАК. Ф. 22. Оп. 1. Д. 1), в 1960 г. исследователь Е. Д. Петряев монографически обобщил материалы кириловского архива в Читинском краеведческом музее [ Петряев , 1960], а в 2000 г. вышла в свет научно-популярная брошюра о Николае Васильевиче, подготовленная историком медицины Б. Д. Лищинским [ Лищинский , 2000]. В данной же статье предлагается обратить внимание на малоизвестные архивы исследователя – научнопопулярные очерки и визуально-антропологические материалы, посвященные вопросам дальневосточной колонизации, до сих пор не получившие должного распространения и осмысления в научном поле.
Творческое наследие Н. В. Кирилова оказалось рассредоточенным по хранилищам различных архивов и музеев России – на местах работ исследователя. Свои этнографические и ботанические коллекции по Забайкалью ученый оставил в фондах созданного им Читинского музея в 1895 г. Отдельные документы, относящиеся к сибирскому периоду его жизнедеятельности, хранятся также в Государственном архиве Забайкальского края (ГАЗК. Ф. 1. Д. 177) и в Государственном архиве Иркутской области (ГАИО. Ф. 294. Д. 3), а документы, относящиеся к дальневосточному периоду, – в Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока (РГИА ДВ. Ф. 792. Оп. 3. Д. 555). Основные же материалы исследователя по Дальнему Востоку дочь Н. В. Кирилова, Юлия Николаевна, после смерти отца передала В. К. Арсеньеву, и впоследствии они поступили на хранение в Общество изучения Амурского края (ОИАК). Архивы Николая Васильевича в ОИАК послужили основными источниками при подготовке данной статьи: базовое собрание материалов именного фонда Н. В. Кирилова (ОИАК. Ф. 22), фрагменты этнографических и фоторабот исследователя в фонде В. К. Арсеньева (ОИАК. Ф. 14) и печатные работы (оттиски статей, брошюры, тексты докладов, книги) в библиотеке ОИАК.
Особый интерес в рамках разработки заявленной исследовательской темы представляли, с одной стороны, текстовые работы Н. В. Кирилова «К колонизационному совещанию о низовьях Амура» и «Колонизация низовьев Амура», оформленные в виде докладов на колонизационных совещаниях, а также фрагменты неопубликованных его работ о развитии оленеводства на севере Приморской области и на Аляске (ОИАК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 52. Л. 12–14), с другой стороны, визуальные материалы, позволяющие наиболее объемно представить искомые образы колонизации в творчестве исследователя. К таковым, в частности, относятся антропологические рисунки Н. В. Кирилова (при неимении фототехники в экспедициях исследователь делал многочисленные зарисовки (лица, части тел, татуировки) в составляемых им среди изучаемых народностей карточках-анкетах), а также фотографии, открытки, вырезки из книг и журналов этнографического содержания из коллекции ученого: при наличии фотоаппарата он активно снимал в экспедициях и поездках, а также собирал фотографии других авторов (ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 11). Очевидно, Николай Васильевич готовил данные визуальные материалы для последующих публикаций в качестве иллюстраций к своим исследовательским текстам, о чем свидетельствуют ремарки в соответствующих архивных документах, но осуществить этого не сумел. Упомянутые текстовые и визуальные источники из архива ученого анализируются в историко-антропологическом ключе, в диалогах с сопоставимыми опытами его современников, в контексте развития науки и политики изучаемого периода.
Исследовательские маршруты доктора Кирилова
«Если нанести на карту его маршруты, то получилась бы удивительно прихотливая ломаная зигзагообразная линия, обошедшая кругом все северное полушарие Земли» – писал о Н. В. Кирилове другой крупный путешественник В. К. Арсеньев (ОИАК. Ф. 22. Оп. 1. Д. 1. Л. 95).
Николай Васильевич Кирилов (1860–1921) окончил медицинский факультет Московского университета, где наибольшее влияние на формирование его будущих научных интересов оказал известный антрополог А. Н. Богданов. Известно, что в 1879 г. студент Кирилов ассистировал профессору Богданову в подготовке первой антропологической выставки в Москве [ Ли-щинский , 2000, c. 5]. После выпуска из университета и года практики в городе Климовичи Могилевской губернии он подал прошение о переводе его в Сибирь, которое было удовлетворено.
20 февраля 1885 г. 24-летний начинающий врач Николай Кирилов прибыл к месту нового назначения – в городок Баргузин Забайкальской области. Населенный пункт этот в 5 улиц и 150 домов был известен в то время как место ссылки декабристов, в частности братьев Кюхельбекеров. Сельский округ, доставшийся во служение Н. В. Кирилову, насчитывал более 20 тысяч населения, разбросанного на обширном пространстве Забайкальской степи, а основными пациентами его стали шаманисты-буряты и отшельники-староверы (ГАЗК. Ф. 1. Д. 177. Л. 55). В ходе своих поездок по Забайкалью, параллельно врачебной службе, Н. В. Кирилов проводил и разноплановые антропологические исследования [ Кирилов , 1983]. В 1890 г. состоялась знаковая для него встреча с сокурсником по университету А. П. Чеховым, следовавшим на Сахалин. Очевидно, в разговоре двух докторов обсуждались не только медицинские темы, но и болезненные вопросы колонизации дальневосточных окраин страны. Взгляды писателя во многом определили судьбу Н. В. Кирилова: неслучайно сразу после выхода чеховской книги «Остров Сахалин» он подал прошение о переводе в эту «горячую» точку. «С особенным вниманием проштудировал я систематический очерк А. Чехова о Сахалине, с чувством глубокого удовлетворения прислушивался я к общественным отголоскам поставленной на очередь тюремной реформы – и, взвесив свои силы, я убедился, что способен даже на многолетний режим жить по точно выработанной программе, отдавая все время другим, лишь бы видеть результаты активной работы», – писал он уже с острова каторги [ Кирилов , 1897, с. 3].
Прибыв на Сахалин летом 1896 г., Н. В. Кирилов принял на себя обязанности окружного и судебного врача, а также бремя заведования лечебницей Корсаковского округа. Условия содержания больных в тюрьме Корсакова известный журналист В. М. Дорошевич, посетивший в этот период объекты сахалинской каторги, образно сравнивал с «Дантовским адом» [ Дорошевич , 1903, с. 17]. Погрузившись в вопросы антропологии каторги, он занял гуманистическую позицию о бесперспективности переделки осужденных путем каторги, сведенной на Сахалине к модели «крепостного права». В этой же связи Н. В. Кирилов вполне разделял осуждение политики каторжной колонизации Сахалина, сформулированное А. П. Чеховым: «Когда наказание, помимо своих прямых целей – мщения, устрашения или исправления, задается еще другими, например колонизационными, целями, то оно по необходимости должно постоянно приспособляться к потребностям колонии и идти на уступки. Тюрьма – антагонист колонии, и интересы обеих находятся в обратном отношении» [ Чехов , 2011, с. 253]. И на Сахалине Николай Васильевич умудрялся совмещать врачебный труд с научным творчеством. В специальной рубрике альманаха «Сахалинский календарь», где генерировались в то время работы, посвященные научному изучению Сахалина, им была выпущена серия статей по различным аспектам колонизации южной части острова [ Кирилов , 1898].
В 1899 г. Н. В. Кирилов был мобилизован на службу в качестве военного врача во Владивостокский крепостной госпиталь, куда в тот период массово поступали раненые из российских воинских частей, принимавших участие в подавлении Ихэтуаньского восстания в Китае. Во Владивостоке, помимо медицинской службы, он продолжил заниматься научной деятельностью: проводил антропологические исследования, апробировал их результаты в специализированных публикациях и докладывал в ученых кругах Общества изучения Амурского края, действительным членом которого он был избран. В фондах ОИАК хранится фотоальбом семьи Кириловых, озаглавленный «Владивосток 1899–1902», содержащий наиболее ранние из известных фотографий Н. В. Кирилова, отражающих его многостороннюю деятельность в этот период – врачебную и исследовательскую (ОИАК. Ф. 22. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–12). На большинстве фотогра- фий альбома – Кирилов-врач в военной форме на фоне больничных зданий в окружении медицинских сестер и раненых с ампутированными конечностями. На других фото – Кирилов-исследователь в экспедициях по Приморью или в компании коллег-ученых. Одним из его учеников и последователей по линии этнографии стал распределенный в 1900 г. во Владивосток молодой офицер В. К. Арсеньев. По воспоминаниям А. К. Арсеньевой, «Николай Васильевич Кирилов – этнограф, зараженный страстью к путешествиям… навсегда остался другом и наставником мужа по этнографии» [Пермяков, 1965, с. 88].
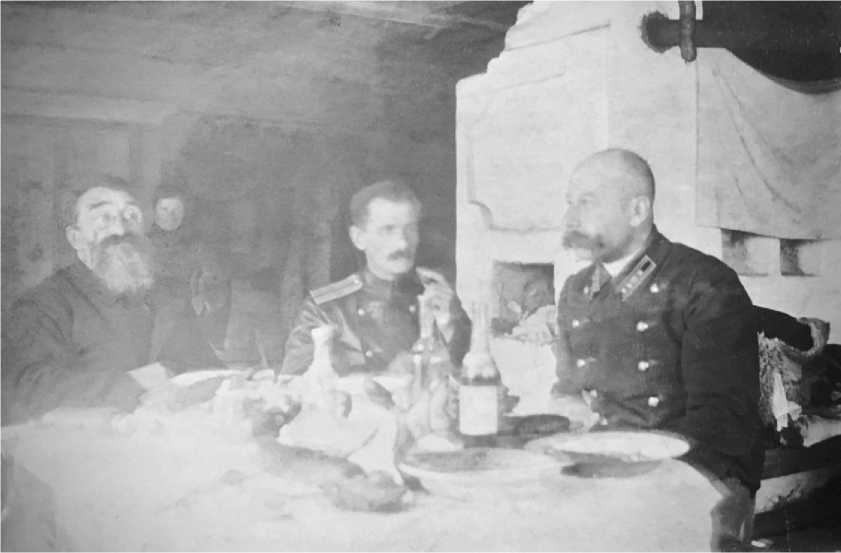
Рис. 1. Слева направо: Н.В. Кирилов, В.К. Арсеньев и неустановленное лицо в экспедиции
Источник: Общество изучения Амурского края (ОИАК). Ф. 14. Оп. 4. Д. 49. Л. 27
После демобилизации из армии Н. В. Кирилов намеревался полностью посвятить себя науке, но вынужден был продолжить служение врачом. В 1903 г. он вновь был направлен на Сахалин в качестве заведующего больницей в Мауке, где занимался медицинским обслуживанием коренного айнского населения, учительствовал в местной школе и по мере возможностей продолжал свои краеведческие изыскания.
Уже в 1904 г. Николай Васильевич получил назначение на должность уездного врача Анадырского округа на Чукотке. Но ввиду сложностей прямого сообщения с Чукоткой он вынужден был двигаться через Англию (Ливерпуль) и Америку (Сиэтл) – обстоятельства, которые Н. В. Кирилов сумел использовать в исследовательских интересах. Так, в течение месячного ожидания парохода на Аляске (Ном) он занимался изучением быта местных эскимосов и алеутов. А кораблекрушение, которое их судно потерпело по пути на Чукотку, позволило ученому провести антропометрическое обследование береговых чукчей селения Эунмун. Материалы этих исследований в виде аккуратно заполненных измерительных таблиц с собственноручными зарисовками, сохранившиеся в архиве ОИАК, составляют внушительную коллекцию антропометрических образов колонизации края (ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 9).
В 1904–1905 гг. Н. В. Кирилов, будучи в должности окружного врача, объехал с исследованиями различные территории Аляски и Чукотки. По заданию Академии наук он провел сравнительно-антропологическое изучение народностей, населяющих приполярные зоны двух соседних территорий и тем внес существенный вклад в изучение проблем заселения северных районов Америки. Им также была составлена подробная гео-этнографическая карта Чукотского полуострова. Кроме того, опыт, полученный Н. В. Кириловым в 1903–1905 гг., был актуализи- рован впоследствии при написании работ об особенностях социокультурных и хозяйственных преобразований на фронтирных территориях в направлении их эффективной колонизации.
«Оленные фермы – школы для бродячих инородцев»
Очерк с таким названием, созданный Н. В. Кириловым по мотивам научных исследований и педагогических инициатив на Сахалине, Аляске и Чукотке, послужил основой его доклада на школьно-просветительской секции Колонизационного совещания в Николаевске-на-Амуре в 1916 г. ( Кирилов , 1916 a ). Повествование открывалось констатацией общих проблем развития образовательных мероприятий, проводимых территориальной администрацией на Амуре, в частности в формате стандартных школ для гиляков (нивхов) и гольдов (нанайцев). Затем ученый сосредотачивался на своем полугодичном опыте занятий с айнскими детьми в Мауке (Южный Сахалин) в 1903 г. По воспоминаниям Н. В. Кирилова, «несмотря на сравнительно благоприятное условие, что в школу явились не только дети Айно, но и смежно живущих русских поселян, что некоторые айнские мальчики были знакомы с русскими словами уличной жизни, на первых же порах явилась трудность занятий вследствие отсутствия педагогической литературы по обучению инородцев» (Там же, c. 2). Кирилов-просветитель столкнулся с «разницей мировоззрений»: оказалось, что все привезенные им на Сахалин пособия опирались на понятия, которых попросту не существовало в обиходе айнских школьников. Пришлось отказаться не только от таких учебников, но и от привезенных методологических разработок, для каждого урока искать новое содержание и импровизировать с формой занятий. «Ясно, что неформально относящийся к своему делу учитель среди инородцев должен бесконечно мучиться, принимать на себя труд тот, который должен быть предварительно сделан соединенными силами специалистов: составить для инородцев учебники, приспособленные к их концентрическому миропониманию, дать готовые пособия, план преподавания и т.д.», – комментировал сложности проведенного среди айнов образовательного опыта Н. В. Кирилов (Там же). Похожую ситуацию описывал его коллега Б. О. Пилсудский применительно к своим попыткам организовать стандартную школу в северной части Сахалина – у гиляков (нивхов) [ Пилсудский , 1898].
В качестве альтернативной модели образования коренных северян Н. В. Кирилов предлагал рассмотреть опыт организации миссионерских школ, изученный им на Аляске. По данным исследователя, «такие школы были открыты в северной Аляске густой сетью самыми различными организациями, потому что в Америке свободно проповедовать слово Божие могут все церкви. В начале текущего столетия было там 40 школ, принадлежавших более чем 20 различным церковным корпорациям: Епископальной, Римско-католической, Моравской, Методистской, Конгрессиональной и др.» (Там же). В докладе отмечалось, что внешним залогом стабильного функционирования подобных школ была финансовая поддержка американского правительства, а внутренним ресурсом развития – комплексный характер таких заведений: при каждой школе ставились общежитие для учащихся и заезжий дом для их родителей, места для молений и торговые лавки, медпункт и почта. «Но этого мало: школы эскимосские обратились в оленеводные фермы. На них эскимосы обучаются скотоводству, уходу за домашним оленем, не бродячим, а оседлым», – сообщал Н. В. Кирилов (Там же, c. 3).
Пояснялось, что поголовье оленей на Аляске постепенно наращивалось путем целенаправленных частных и государственных закупок особей в Восточной Сибири и на Чукотке в ходе реализации правительственной задачи создания для эскимосов нового хозяйственного занятия – оленеводства – взамен традиционной охоте на морского зверя. «Мысль – опереться в таком деле крупного “социологического перевоспитания целого народа” в новом направлении на миссии – оказалась вполне счастливою. В настоящее время в Аляске 200 000 домашних оленей, всюду раскинуты сети оленьих станций для возки пассажиров и почты», – докладывал Н. В. Кирилов (Там же, c. 4).
Образ «школы-фермы», соединяющий ресурсы медицины, образования, религии, производства и торговли для «перевоспитания» коренных народностей признавался им как эффективный и рекомендовался к применению на российской почве. В частности, предлагая построить подобную школу-ферму в верховьях реки Амгуни, Николай Васильевич прогнозировал возможности получения составного культурно-экономического эффекта от подобного предприятия: «такая организация создаст целостность мероприятий по просвещению наших тунгусов. При миссионерском стане необходима ферма оленеводная, поставленная на рациональных началах. Нельзя забыть эту отрасль скотоводства, она имеет право стать предметом забот правительства, доставит прекрасное питание для миллионов населения и докажет, что человек может с пользою эксплуатировать и “хладные тундры”» (Тaм же, c. 7). Если Б. О. Пилсудский относительно нивхов Сахалина разрабатывал план создания на острове национально-культурных автономий [Пилсудский, 1898], то Н. В. Кирилов видел будущее только в совместных формах хозяйствования коренных и пришлых сообществ на колонизируемых территориях. Он предполагал, что вслед за правительственными начинаниями в этой области могут появиться и частные инициативы, включая коммерческие предприятия: «иметь преданных друзей тунгусов, получить возможность формировать свободно зимою поисковые партии золотоискателей, иметь в живом скоте запасы мяса – пропитания для рабочих, даже заготовлять излишки такового для экспорта – открыть всем глаза на выгодность заселья полуполярной тайги, имеющей свои прелести и преимущества» (Кирилов, 1916a, c. 7). Резюмируя содержание доклада, Николай Васильевич призывал использовать описанный им опыт организации школ-ферм для применения в колонизационных программах на территориях Нижнего Амура, Сахалина и Чукотки.

Рис. 2. Чукчи. Фото Н.В. Кирилова
Источник: ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 11. Л. 40.
В 1905 г. Н. В. Кирилов вновь вернулся в Приморье, устроился земским врачом в Ни-кольск-Уссурийском уезде. В это «больное» для всей страны время доктор Кирилов предпринял неудачную попытку проявить себя на политическом поприще: за участие в организации крестьянского съезда в Никольск-Уссурийске он был арестован и осужден. В 1909–1913 гг. Николай Васильевич продолжил заниматься археологическими, метеорологическими и этнографическими исследованиями в районе Поста Святой Ольги, где параллельно заведовал местной больницей, а в 1914 г. он был призван на Австро-Венгерский фронт, откуда вскоре по состоянию здоровья был возвращен на Дальний Восток, где принял должность санитарного врача в г. Николаевске-на-Амуре. В этот период и случился очередной поворот в судьбе Николая Васильевича, когда востребовался весь его предыдущий разносторонний опыт. В 1916 г., после актуализации на государственном уровне вопроса о колонизации низовьев Амура, в г. Николаевске было создано межведомственное совещание, и в данном направлении политическая активность Н. В. Кирилова оказалась вполне кстати, выразившись в проведении хозяйственных переписей, инспекционных экспедиций, а также в серии выступлений по вопросам колонизации края. Одним из таковых стал доклад на рыбопромышленной секции Совещания по вопросам колонизации низовьев Амура, состоявшийся в г. Николаевске в апреле 1916 г., заслуживающий особого исследовательского внимания в данной статье.
«Корейцы как наиболее соответственный элемент заселения Амура и для интересов рыбопромышленности в частности»
Печатный оттиск текста доклада Н. В. Кирилова с таким названием поступил на хранение в библиотеку ОИАК от В. К. Арсеньева. Эта тема живо волновала самого В. К. Арсеньева (его рукой сделаны многочисленные пометки на полях работы), и потому представляет интерес перекличка мнений двух исследователей по «корейскому вопросу» в колонизационной политике на Дальнем Востоке.
Доклад открывался обозначением проблемы малой заселенности территорий вдоль Амура – от г. Хабаровска до г. Николаевска – с указанием некоторых конкретных причин сложившегося положения: «Край открыт для вольного переселения на широкой площади, но засельщиков весьма трудно устраивать на местах то по отсутствию дорог, то по отдаленности старожильческих селений – центров местной культуры – торговли, церкви, школы, фельдшерского пункта» ( Кирилов , 1916 b , c. 1). В работе «Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края» В. К. Арсеньев также сообщал, что в путешествиях по различным местам Дальнего Востока он всюду слышал от переселенцев примерно одну и ту же присказку: «Места богатые, что и говорить, да не доберешься до них! А если заедешь, то как потом в город выберешься за покупками по хозяйству!?» [ Арсеньев , 2012, с. 308]. Очевидно дорожный вопрос, несмотря на свою первостепенность для развития колонизационных программ, находился без внимания правительства на протяжении более чем полувекового периода российского владения краем.
Далее в докладе Н. В. Кирилов останавливался на вкладе различных этнокультурных групп колонистов в хозяйственное освоение земель и в частности фокусировал внимание на адаптивной гибкости корейцев: «Несмотря на то, что корейцам только немногим разрешена земля для арендного пользования от казны, от города, от крестьян, они сумели разделать почву, казавшуюся бесплодной по климатическим условиям» ( Кирилов , 1916 b , c. 2). Отмечалось, что со временем именно предприимчивость корейских переселенцев позволила обеспечить локальный рынок местной сельскохозяйственной продукцией (злаковыми культурами и картофелем) по вдвое меньшей цене относительно привозной. Н. В. Кирилов подчеркивал, что в то время как переселенцы-крестьяне из России бросили обработку земли как «ничтожное занятие, отвлекающее их от рыбы, перестали интересоваться даже огородничеством как безвыгодным делом – корейцы умеют держаться и в самых суровых местностях тайги. Не обращая внимание на частые наводнения, дают значительные количества овса и ячменя» (Там же, c. 3). В. К. Арсеньев также отмечал трудолюбие и склонность к оседанию на землю среди поселенцев из Кореи: «Недовольные японцами, корейцы, иммигрируя в Приамурье, смотрят на Россию как на вторую родину. Корейцы хорошие работники, отличные земледельцы и огородники» [ Арсеньев , 2012, с. 246]. Как видно, эффективность земледельческой «жилы» в корейцах как хозяйственных колонизаторах края сомнения у исследователей не вызывала.
Более сложной стороной данного вопроса оказывалась позиция о принятии корейцев в российское подданство и, соответственно, о наделении их равными правами с русскими колонизаторами края. По данным Н. В. Кирилова, большая часть корейских переселенцев «уже порвали со своей родиной давно и подали прошение о переходе в русское подданство; для многих из них таковое принятие в русское подданство уже благоприятно разрешено, но фактически еще не приводится в исполнение по волоките местных формальностей привода к присяге. Заселение тайги трудолюбивым элементом сулит только выигрыш для страны». Напротив данного положения – на полях доклада Н. В. Кирилова – рукой В. К. Арсеньева был поставлен знак вопроса. В главе «Корейцы» вышеупомянутого военно-географического очерка об Уссурийском крае В. К. Арсеньев высказывал неоднозначную оценку корейской колонизации региона. С одной стороны, он указывал на положительные отличия корейских колонистов от китайских: «Китайцы приходят в Уссурийский край одинокими: это жень-шеньщики, купцы, соболевщики и рабочие. Накопив денег они все, за редкими исключениями, непременно возвращаются на родину. Корейцы совсем не то! Они все прибывают сюда с семьями, прочно садятся на землю, занимаются хлебопашеством и огородничеством. Китайцы – хищники, корейцы же – колонисты» [Там же, с. 247]. C другой стороны, в вопросе принятия корейцев в российское подданство
В. К. Арсеньев придерживался сдержанной позиции, требующей проверки временем: «В настоящее время корейцы рады, что их пустили в Приамурье, берут билеты иностранных подданных и довольствуются лесными участками с каменистою почвою, лишь бы не быть изгнанными обратно в Корею. Но, как только корейцы получат права русского подданства, они тотчас же уйдут из гор в долины, захватят места, удобные для поселения, и потребуют для себя все преимущества наравне с русскими переселенцами» [Там же, с. 248]. Разделяя мнение В. К. Арсеньева касательно приоритетности корейских колонистов в сравнении с китайскими, Н. В. Кирилов решительно рекомендовал оформлять корейских переселенцев в российское подданство: «необходимо признать среди переселенцев желательным элементом русско-подданных корейцев, трактовать их впредь как полноправных граждан страны, оказывать им те же привилегии, как и прочим засельщикам суровых местностей, не изученных, случайно пока эксплуатируемых удачными золотоискателями» ( Кирилов , 1916 b , c. 3). В. К. Арсеньев же предлагал оставить корейцев в положении иностранных подданных, предоставив им право пользоваться землей на арендных условиях: «принимать в русское подданство следует только тех из них, которые действительно обрусеют и переменят свой образ жизни. Иначе выйдет не обрусение Уссурийского края, а его окореивание» [ Арсеньев , 2012, с. 247].
Следующим, смежным с предыдущим, дискуссионным положением доклада Н. В. Кирилова являлось положение об использовании наемного труда корейских переселенцев русскими колонистами. «Наемные рабочие-корейцы быстрее разделают и покосы, и поля, умножат разновидность утилизации окружающей природы, увеличат благосостояние жителей и упрочат как успех разностороннего хозяйства, так и привязанность к своему раз разработанному клочку земли, к своей сельской усадьбе», – писал Н. В. Кирилов ( Кирилов , 1916 b , c. 3). Он высказывал надежду, что при содействии власти корейские поселенцы со временем составят костяк для капиталистических предприятий края: земледельческих, золотодобывающих, рыболовных и др. В этой связи В. К. Арсеньев предупреждал, что в текущий момент «русский рабочий-земледелец, промышленник, огородник не может конкурировать ни с китайцами, ни с корейцами. Торопиться с колонизацией Края иностранными подданными не следует. Для государства будет выгоднее держать еще некоторое время Край этот пустынным и сохранить свободные земли для будущих русских переселений» [ Арсеньев , 2012, с. 247]. Приведенный обмен мнениями вполне отражал полярность позиций по вопросу «сдерживания» переселенческих волн из соседних азиатских стран на территорию российского Дальнего Востока, находившегося на острие обсуждений в тот период как в научных, так и в правительственных кругах.
Продолжала доклад Н. В. Кирилова весьма оригинальная линия, рисующая перспективы дальневосточной колонизации как культурно-экономического взаимодействия корейских переселенцев с коренными сообществами края. В своих этнографических работах Николай Васильевич регулярно высказывался за осовременивание уходящего в историю традиционного хозяйствования местных этнических групп – гольдов (нанайцев), гиляков (нивхов), тунгусов (эвенков и эвенов), за необходимость их подъема на более высокий культурный уровень. Такая позиция находилась в русле популярного в научном сообществе убеждения о миссионерской обязанности «цивилизованных колонистов» оказать помощь «вымирающим инородцам» края. По мнению ученого, во избежание культурного столкновения лучшим решением этого вопроса может быть не прямой контакт русских переселенцев c коренными жителями, а использование фигуры «трудолюбивого посредника» в лице корейских колонистов. «Что необходимо справедливо по возможности сохранить аборигенов страны, – в том сомнений быть не может. Проекты о выделении аборигенов-инородцев в особые территории, неприкосновенные для постороннего элемента населения, – нежизненны, представляют фикцию. Промежуточным звеном перехода к новому типу жизни этих инородцев и могут послужить корейцы, влитые в число общественников стойбищ», – предлагал в докладе Н. В. Кирилов ( Кирилов , 1916 b , c. 4). Полемизируя с теорией создания хозяйственно-культурных автономий, Николай Васильевич конструировал образ «колонизатора-посредника» – когда корейские переселенцы, сами становясь крестьянами на глазах аборигенов и тем самым подавая им пример, совместно формировали бы новые формы хозяйствования в крае. Иными словами, предлагалось скрестить новаторские земледельческие инициативы корейцев с лучшими промысловыми традициями местных жителей для получения максимально адаптивной модели локальной культуры. По убеждению
Н. В. Кирилова, в результате получится «вполне жизнеспособный энергичный хозяин всестороннего хозяйства с усвоенными высшими формами сельскохозяйственной культуры, приспособленной к особенностям естественно-исторических условий местности» (Там же). В докладе резюмировалось, что такие насельники края смогут впоследствии эффективно обслуживать и потребности русских колонистов: наниматься в качестве рабочей силы на предприятия, снабжать населенные пункты местной продукцией по относительно низким ценам и т.д. Эта заключительная часть доклада была убедительно аргументирована Н. В. Кириловым, что, возможно, было связано с его профессиональной симпатией к корейским поселенцам, среди которых он проводил регулярные антропологические исследования.

Рис. 3. Корейцы. Фото Н.В. Кирилова.
Источник : ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 11. Л. 44.
Заключение
Визуальные и текстовые образы колонизации, зафиксированные в научном творчестве Н. В. Кирилова, отразили напряженные поиски различных сил российского общества в плане колонизации дальневосточного края. В авангарде этих процессов выступали ученые-эволюционисты, к каковым принадлежал и Николай Васильевич; они не только исследовали колонизацию, они были составной частью этой колонизации. Их роль состояла в изучении колонизационной емкости природных ресурсов и социокультурного капитала края [Головнев, 2020], а позиция выражалась не просто в антропологическом, но в антропометрическом взгляде «просвещенного колонизатора» на «вымирающих инородцев» [Головнев, Головнева, 2019]. Экспериментальные модели «перевоспитания» коренных народностей венчают тематические доклады Н. В. Кирилова, колониалистский подход к изучаемой культуре наглядно выражен и в визуальных материалах исследователя – рисунках и фотографиях. Вклад ученых состоял также в трансляции соответствующей тональности в ведомственные документы, и особенно гармонично складывалось подобное научно-государственное партнерство, когда во главе края оказывался такой просвещенный генерал-губернатор, как Н. Л. Гондатти – выпускник Московского университета, ученик Д. Н. Анучина по линии антропологии, до перехода на государственную службу занимавшийся этнографическими исследованиями и имевший амбиции осуществления государственного «колонизационного плана» на Дальнем Востоке [Хисамутдинов, 2000]. Неслучайно в это время власти внимательно прислушивались к рекомендациям Н. В. Кирилова при разработке колонизационных программ. Известно, что, будучи единомышленником Н. В. Кирилова во многих вопросах, включая патерналистскую политику в отношении этнических сообществ края, Н. Л. Гондатти оставил резолюции о необходимости исполнения кириловских предложений на полях его рапорта, посвященного вопросам колонизации Удского уезда (РГИА ДВ. Ф. 792. Оп. 3. Д. 555), а соответствующие положения докладов, озвученные Н. В. Кириловым на колонизационных совещаниях 1916 г., были растиражированы в печати. Неизвестно, какую степень реализации могли бы иметь теоретические проекты Н. В. Кирилова на практике, если бы события революции 1917 г. и Гражданской войны не вытеснили вопросы колонизации из первоочередной повестки дня, что делает невозможным их объективную исследовательскую оценку.
Но если всмотреться в кириловские образы колонизации по прошествии времени, то можно увидеть последовавшие их преломления. «Школы-фермы» стали своеобразным прообразом для советских культбаз – эффективных комплексных структур, создававшихся Комитетом Севера для «культурного подъема, развития самодеятельности, выработки основ национального самоопределения и вовлечения туземных племен в строительство, а также оказания немедленной экономической и культурной помощи туземцам» [ Аманжолова , 2012, с. 236]. А так называемые «русские корейцы», проживавшие в России на протяжении советского периода, являющиеся гражданами страны и полностью ассимилировавшиеся в российской среде, составляют сегодня значительную прослойку населения в различных районах Дальнего Востока, реализуя актуальные для региона предпринимательские инициативы и активно участвуя в различных сферах современного строительства в крае. По замечанию А. В. Головнева, колонизация изменчива в конкретных практиках, но универсальна как феномен: «ее базовые черты сохраняются с древнейших времен до сегодняшнего дня, поэтому в обнаруживаемых параллелях можно видеть устойчивые явления, а не случайные совпадения» [ Головнев , 2015, с. 9]. Современный Дальний Восток меняется внешне, но нерв колонизации по-прежнему пронизывает его жизнь изнутри, определяя сущность фронтира как «подвижного рубежа» (выражение Ф. Тернера) [ Тернер , 2009]. Край остается территориальным «буфером» между тремя крупнейшими азиатскими державами – Китаем, Кореей, Японией – и Россией, на границах которых продолжают твориться колонизационные процессы, подпитываемые актуальными геополитическими вызовами. В этой связи текущие экономические госпрограммы, наиболее звучной из которых является «Дальневосточный гектар», можно трактовать как продолжение череды колонизационных экспериментов вековой давности. А акции по открытию дальневосточных филиалов федеральных организаций культуры («Государственного Эрмитажа», Мариинского театра и др.) выглядят как современные реплики установок Н. В. Кирилова о необходимости доступа населения окраинных территорий к культурному достоянию центра. В такой проекции архивные образы колонизации представляют не только историческую ценность, они передают научно-творческую эстафету от исследователей прошлого современным ученым, инспирируя новые теоретические и практические опыты в ходе длящейся дальневосточной колонизации.
Список литературы Образы дальневосточной колонизации рубежа XIX-XX веков (на материалах архива Николая Кирилова)
- Аманжолова Д.А. Советская этнополитика (1929-1941) // Этнический и религиозный факторы в формировании и эволюции российского государства. М.: Новый хронограф, 2012. С. 207-262. EDN: QAHJCZ
- Арсеньев В.К. Краткий физико-географический очерк бассейна р. Амур // Вестник Азии. 1916. Кн. 2-3. С. 12-30.
- Арсеньев В.К. Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края // Собр. соч.: в 6 т. Владивосток: Рубеж, 2012. Т. 3. C. 63-322.
- Буссе Ф.Ф. Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский край в 1883-1895 гг. СПб.: Общественная польза, 1896. 522 с.
- Головнев А.В. Феномен колонизации. Екатеринбург, 2015. 592 с. EDN: UDTJMV