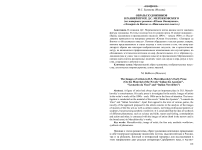Образы художников в ранней прозе Д. С. Мережковского (на материале романов "Юлиан Отступник", "Леонардо да Винчи" и "Итальянских новелл")
Автор: Баликова Мария Сергеевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (41), 2017 года.
Бесплатный доступ
В сознании Д.С. Мережковского всегда важное место занимала фигура художника. В статье исследуется его ранняя проза. В центре внимания - образы художников в произведениях писателя 1890-х - начала 1900-х гг. Исследование проводится на материале романов «Юлиан Отступник», «Леонардо да Винчи» и «Итальянских новелл». Помимо обращения к текстам разных жанров, новизна представленного в статье подхода к теме состоит в том, что автор анализирует образы как мастеров изобразительных искусств, так и артистических натур, не являющихся профессиональными живописцами или скульпторами, но обладающих эстетическим взглядом на мир. Делается вывод, что с образами художников (как в узком, так и в широком смысле) в произведениях Мережковского связана идея синтеза разнородных явлений, таких как наука и вера, разум и чувство, созерцание и действие и др.
Мережковский, образ художника, изобразительные искусства, эстетическое мировосприятие, синтез явлений
Короткий адрес: https://sciup.org/14914604
IDR: 14914604
Текст научной статьи Образы художников в ранней прозе Д. С. Мережковского (на материале романов "Юлиан Отступник", "Леонардо да Винчи" и "Итальянских новелл")
Начиная с эпохи романтизма, образ художника неизменно приковывал к себе творческое внимание писателей, поэтов, мыслителей как в России, так и за рубежом. Богатый и интересный материал для исследования в этом направлении дает русская литература Серебряного века, в частно- сти - творчество Д.С. Мережковского. Важное место в его сознании занимает фигура художника - не только как мастера, по роду своей деятельности связанного со сферой изобразительных искусств, но и в более широком смысле - как артистической натуры, склонной к эстетическому восприятию мира. Такие образы мы встречаем уже в ранних произведениях Мережковского, в том числе в его романах 1890-х гг. и новеллистическом цикле начала 1900-х гг.
В романе «Юлиан Отступник», открывающем трилогию «Христос и Антихрист», это, прежде всего, главный герой произведения, император Юлиан. Еще в детстве, в процессе игры, искусство дарит герою ту «радость великого освобождения от жизни»1, которую он потом испытает, созерцая изваяние Афродиты: «И мальчик принялся за работу. <...> И над игрушечным кораблем своим скоро забыл все обиды, всю свою ненависть и вечный страх смерти»2 (далее ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием тома и страниц).
Именно с образом Юлиана по преимуществу связан чрезвычайно важный для творчества Мережковского мотив соединения, взаимопроникновения христианского и языческого начал. Характерно, что отмечает эту черту в герое его подруга - женщина-скульптор Арсиноя (к образу которой мы обратимся ниже), понимающая его, как никто другой. «Подумай, что значит твое милосердие, странноприимные дома, проповеди эллинских жрецов. Все это - подражание галилеянам, все это - новое, неизвестное древним мужам, героям Эллады» (1, 198), - говорит она Юлиану.
Еще один художник в романе Мережковского - инок Парфений, обладающий «великим искусством» (1, 173) расписывать «заглавные буквы книг хитрыми узорами» (1, 173). В этих узорах, где «все народы и века простодушно соединялись в монашеском раю, блиставшем переливами драгоценных камней вокруг заглавных букв Священного Писания» (1, 174), Парфений бессознательно достигает того чаемого синтеза, который в финале произведения будет осуществлен Арсиноей в созданном ею изваянии с «телом олимпийского бога, с лицом, полным неземной печали» (1,286).
Арсиноя - самый завершенный образ среди всех изображенных в романе художников. Увлекавшаяся ваянием с юности, в зрелом возрасте она, пройдя через языческое и «галилейское» (христианское) «искушения», «решила вернуться в мир, чтобы жить и умереть <...> художником» (1, 263). Поэтому закономерно, что именно ей, наряду с беспристрастным историком Аммианом Марцеллином, дано осознать, что «вся сила Рима, вся мудрость Эллады только путь к учению Христа» (1, 285).
Если в первом романе трилогии автор показывает, что лишь избранным современникам Юлиана было дано предчувствовать «великое веселие Возрождения» (1,286), а в главном герое произведения можно увидеть «раннего и обреченного на гибель предтечу Возрождения»3, то временем действия романа «Леонардо да Винчи», центрального в трилогии, избран собственно Ренессанс.
Известно, что «художник эпохи Возрождения <...> должен быть све- дущ не только во всех искусствах»4, но и в различных областях науки и жизни. И в романе Мережковского Леонардо предстает не только как живописец, скульптор, автор множества рисунков, но и как ученый, как изобретатель, даже как музыкант. Достаточно вспомнить, как выглядит комната мастера в описании Мережковского, чтобы представить, насколько разносторонни были интересы Леонардо:
«Комната была загромождена машинами и приборами по астрономии, физике, химии, механике, анатомии. <...> Виднелся водолазный колокол, мерцающий хрусталь оптического прибора, изображавшего глаз в больших размерах, скелет лошади, чучело крокодила, банка с человеческим зародышем в спирту, <...> острые лодкообразные лыжи для хождения по воде, и рядом, должно быть, случайно попавшая сюда из мастерской художника, глиняная головка девушки или ангела с лукавой и грустной улыбкой. <...> И надо всем <...> распростирались крылья машины» (1, 323-324).
Художническая деятельность хозяина комнаты явно отделена от других занятий («случайно попавшая сюда из мастерской художника, глиняная головка девушки или ангела», курсив наш. - М.Б.у По всей вероятности, такое выделение изобразительного искусства из множества видов деятельности Леонардо свидетельствует об особом значении для него и для автора романа именно сферы искусства.
Невозможно также не обратить внимания на то, что «надо всем», находящимся в комнате, господствуют огромные крылья летательного аппарата, над которым на протяжении долгого времени безуспешно работает Леонардо. Образ летательной машины выступает в романе как «символ дерзновенной творческой мысли»5, знак «стремления художника к единству с Небом»6. Но не менее важен и сам образ крыльев, являющийся одним из лейтмотивов романа и проходящий в разных вариациях через все произведение вплоть до его финала. Там русский изограф Евтихий, осмотрев мастерскую Леонардо и познакомившись с его работами, делает основным элементом своей иконы с изображением Иоанна Предтечи «позлащенные крылья, внутри багряно-золотистые, как пламя, снаружи белые, как снег, широко распростертые в лазурном небе над желтою землей и черным океаном, подобные крыльям исполинского лебедя» (2, 248). Глубокое и удачное, на наш взгляд, толкование этого образа дано И.А. Сухановой. Исследовательница замечает: «В сознании Евтихия соединяются разные образы: “крылья Предтечи напоминали то крылья механика Дедала, то крыло летательной машины Леонардо” <.. >. Евтихий чувствует противоположность “вещественных” крыльев Дедала “духовным” крыльям Предтечи, тем не менее, он - единственный, кто за вещественными крыльями Леонардо видит крылья духовные»7 (выделено автором. -М.Б.).
Резонным представляется вопрос: неужели «духовные крылья» (или «крылья Духа», как называет их Мережковский в одном из стихотворений) Леонардо и его же - пусть и не всегда осознаваемое самим мастером - служение злу (вспомним, например, Дионисиево ухо и военную машину-«паука») - лишь две разные, но не взаимоисключающие стороны ренессансного универсализма художника? Таким вопросом, мучившим в романе учеников Леонардо, не раз задавались и критики, и ученые. Примечательно, что ими были выражены не только различные, но иногда и оппозиционные по отношению друг к другу точки зрения. Так, современный биограф и исследователь творчества Мережковского А.А. Холи-ков утверждает: «В 1890-е годы писатель расширит границы прекрасного вплоть до поэтизации зла. Идея так называемой “новой красоты” будет связана с ницшеанским периодом творчества Мережковского и воплотится в романах о Юлиане Отступнике, Леонардо да Винчи и сборнике “Новых стихотворений”»8. По более раннему замечанию З.Г. Минц, писатель «настойчиво подчеркивает внеморальность Познания и Творчества»9. С исследовательницей спорит О.В. Дефье, доказывая, что «немыслимую для Ф. Ницше взаимозависимость творчества и морали Д. Мережковский вместе со своим героем мотивировал умением постичь глубинное миросогла-сие, осознать пропорциональность определяющих его сил»10. Нам, напротив, представляется, что в данном случае необходимо «развести» автора произведения и его персонажа.
У персонажа есть кредо, которому он всегда старается следовать сам и которое внушает своим ученикам: «Если хочешь быть художником, оставь всякую печаль и заботу, кроме искусства. Пусть душа твоя будет как зеркало, которое отражает все предметы, все движения и цвета, само оставаясь неподвижным и ясным» (1,316). Естественно, как человек, Леонардо «бесконечно богат нюансами ощущений, сомнениями, внутренней драмой и таинственностью»11. Как художник, он стремится только к спокойному созерцанию и ясному, ничем не искаженному «отражению» всех предметов, явлений и т.д. Поэтому он не видит противоречия в своей одновременной работе над такими совершенно не похожими друг на друга «близнецами» (1, 339) (выражение художника), как фреска «Тайная Вечеря» и памятник герцогу Сфорца, именуемый «Колоссом», - «персонификация сил зла и коварства»12 человека, возомнившего себя Богом (символична надпись на постаменте памятника: «Ессе Deus», «Се Бог»),
Что же касается автора романа и его концепции искусства, то здесь мы присоединяемся к интерпретации, предложенной Л.А. Колобаевой: «В изображении эпохи Итальянского Возрождения и Леонардо да Винчи <...> претворена мысль о том, что “культура оказалась шире христианства”, но она нуждается в соединении, синтезе с религией»13 в ее морально-нравственных основах.
Но вернемся к образу центрального героя романа и обратим внимание на то, что Леонардо да Винчи как художник «аполлонического» типа имеет в романе своего яркого антипода, в качестве которого выведен Микеланджело. Интересно, однако, что художнический тип Микеланджело, как он изображен Мережковским в одноименной «итальянской новелле», в большей степени сближен с типом Леонардо, чем в романе. Сближают их, в частности, вечное желание «невозможного»14 в искусстве, стремление творить «бесцельно и бескорыстно»15, лишь «исполняя волю своего сердца и Бога», «никому не служить»16 своим искусством. Объединяет характеры Микеланджело из новеллы и Леонардо из романа и странное, на первый взгляд, не сразу понятное равнодушие мастеров к судьбе (вплоть до гибели) своих творений. Так, Микеланджело, от которого Папа Римский Павел потребовал «поправить» «Страшный суд»: «прикрыть одеждами нагие тела», «крылья <.. .> приделать кому следует», - сам отказался это делать, но остался совершенно спокоен, когда «обезобразить»17 произведение художника согласился его ученик. Леонардо предвидит гибель от сырости двух своих фресок («Тайной Вечери» и «Битвы при Ангиари») и становится свидетелем уничтожения еще двух своих шедевров - «Колосса» и картины «Леда и лебедь». Памятник на глазах его создателя разбивают французские арбалетчики, «Леда» гибнет во время устроенного детьми-инквизиторами «сожжения сует». Художник на оба эти страшные действа смотрит «покорно» (2, 15).
Чем можно объяснить такое равнодушное (по крайней мере, внешне) принятие художником гибели его любимых и, возможно, лучших произведений? Современные литературоведы предлагают различные трактовки. Так, О.В. Дефье приходит к мысли о трагической зависимости художника от его времени - зависимости, неизбежно повергающей творческую личность в состояние «раздавленности» и «оцепенения»18. А Я.В. Сарычев, исследуя гностический подтекст романа, апеллирует к проблеме «андро-гинизма» и видит оправдание внешне «бессмысленного» творчества в открывающемся художнику «высшем гнозисе»19.
Вероятно, в зависимости от различных методологических, эстетических и философских подходов к тексту, могут быть предложены и иные, столь же непохожие друг на друга интерпретации. Но, очевидно, именно на это разнообразие прочтений и ориентирован текст романа Мережковского - романа символистского, с его неоднозначностью, «мерцанием» образов, множественностью мотивировок, богатством реминисцентного плана.
Коснемся и вопроса о присущем главному герою романа эстетизме. Чуткий и проницательный художник осознает, что, создавая портрет Джоконды, он тем самым делает выбор между жизнью и «созерцанием» (искусством) и отдает предпочтение последнему. Однако отношение Леонардо к моне Лизе как модели для его полотна и к самой картине не исчерпывается эстетизмом и готовностью принести жизнь в жертву искусству. Художник не просто пытается «решить, что лучше: умертвить живую для бессмертной или бессмертную для живой - ту, которая есть, или ту, которая будет всегда на полотне картины» (2, 142), - он стремится в искусстве соединить «два образа в один, <.. > действительность и отражение - живую и бессмертную» (2, 142). Вместо преходящей красоты в жизни выбирает вечную (вечно живую) красоту в искусстве. На «правильность» такого решения указывает и «радость великого освобождения» (2, 142), которую испытывает художник, совершив свой выбор, и само создание портрета, ставшего «вершиной сотворчества художника и бытия»20.
Вера в искусство, способное даровать бессмертие, сближает заглавно- го героя романа «Леонардо да Винчи» с ваятелем Антонио - персонажем «итальянской новеллы» Мережковского «Любовь сильнее смерти». Вот как в новелле описывается работа скульптора (после мнимой смерти его возлюбленной) над изваянием девушки: «Лицо Антонио выражало спокойствие. Ему казалось, что он воскрешает мертвую и дает ей новую бессмертную жизнь»21.
Образ Леонардо может быть сопоставлен и с образами героев других «итальянских новелл», особенно героев-художников, таких как Верзила из «Превращения» и Филиппо Брунеллески, действующий в том же произведении. Последнего так же, как и Леонардо, отличает «вера в творческие силы человека, в безграничную мощь его разума»22. При этом в образе Леонардо разум выступает не как самодостаточное качество, но как элемент определенной системы, обретающий свое подлинное значение только во взаимодействии с другими элементами (чувствами и эмоциями, способностью к эстетическому наслаждению миром, верой в Божественный «Первый Двигатель»),
Ясно, что даже такому художнику, как Леонардо да Винчи, не дано соединить все противоположности и примирить все противоречия в своей душе и в мире. Лишь в некоторых образах его живописных полотен (Мадонна (на полотне «Мадонна в скалах»), Иоанн Предтеча) угадывается чаемое слияние «земного» и «небесного», духовного и плотского, христианского и языческого23. Именно в искусстве видится Мережковскому необходимый потенциал для грядущего синтеза долженствующих соединиться противоположностей. Глубоко знаменательно появление в финале романа иконы, созданной русским мастером Евтихием, предваряющее «русскую тему» заключительной части «Христа и Антихриста», трилогии Мережковского «Царство Зверя» (1908; 1911-1912; 1918), а также ряда его философско-публицистических выступлений 1900-х гг. и более позднего времени.
Список литературы Образы художников в ранней прозе Д. С. Мережковского (на материале романов "Юлиан Отступник", "Леонардо да Винчи" и "Итальянских новелл")
- Минц З.Г. О трилогии Д.С. Мережковского «Христос и Антихрист//Мережковский Д.С. Христос и Антихрист: трилогия. Т. 1. М., 1989. С. 9.
- Панченко Дм. Леонардо и его эпоха в изображении Д.С. Мережковского//Мережковский Д.С. Воскресшие боги. Леонардо да Винчи. М., 1990. С. 635.
- Дефье О.В. Д. Мережковский: преодоление декаданса. (Раздумья над романом о Леонардо да Винчи). М., 1999. С. 109.
- Суханова И.А. Созвучие искусств в романе Д.С. Мережковского «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)»//Русская речь. 2006. № 4. С. 23.
- Холиков А.А. Дмитрий Мережковский: из жизни до эмиграции: 1865-1919. СПб., 2010. С. 49.
- Баццарелли Э. Заметки о романе Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи»//Д.С. Мережковский. Мысль и слово. М., 1999. С. 52.
- Колобаева Л.А. Тотальное единство художественного мира (Мережковский-романист)//Д.С. Мережковский. Мысль и слово. М., 1999. С. 12.
- Сарычев Я.В. Смысл творчества и проблема «андрогинного» статуса личности в романах Д.С. Мережковского//Русская литература и эстетика конца XIX -начала XX в.: проблема человека. Сб. I. Липецк, 1999. С. 34.
- Дефье О.В. Д. Мережковский: преодоление декаданса. (Раздумья над романом о Леонардо да Винчи). М., 1999. С. 72.
- Девятайкина Н.И. Исторические личности как ренессансные типы у Д.С. Мережковского (По новелле «Превращение»)//История и филология: проблемы научной и образовательной интеграции на рубеже тысячелетий. Петрозаводск, 2000. С. 49.