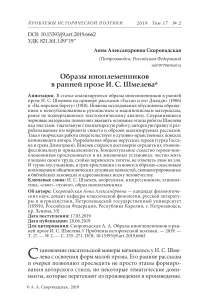Образы иноплеменников в ранней прозе И. С. Шмелева
Автор: Скоропадская Анна Александровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.17, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются образы иноплеменников в ранней прозе И. С. Шмелева на примере рассказов «Гассан и его Джедди» (1906) и «На морском берегу» (1910). Новизна исследования обусловлена обращением к неопубликованным рукописным и машинописным материалам, ранее не подвергавшимся текстологическому анализу. Сохранившиеся черновые материалы позволяют выявить основные этапы работы Шмелева над текстами: тщательную стилизаторскую работу, авторскую правку и разрабатываемые им варианты сюжета и образов анализируемых рассказов. Такая творческая работа свидетельствует о духовно-нравственных поисках начинающего автора. Разрабатывая образы нерусских героев (турка Гассана и грека Димитраки), Шмелев старался достоверно отразить их этноконфессиональную принадлежность. Концептуальное сходство героев-иноплеменников прослеживается в их жизненных установках: честно жить плодами своего труда, стойко переносить тяготы, не отвечать злом на зло. И турок-мусульманин, и грек-христианин становятся образно-смысловым воплощением общечеловеческих духовных ценностей, сконцентрированных в библейских заповедях и адресованных всему человечеству.
И. с. шмелев, неореализм, импрессионизм, этнопоэтика, "свое"-"чужое", образ иноплеменника
Короткий адрес: https://sciup.org/147226201
IDR: 147226201 | УДК: 821.161.1.09“19” | DOI: 10.15393/j9.art.2019.6662
Текст научной статьи Образы иноплеменников в ранней прозе И. С. Шмелева
С тановление писательской манеры начиналось у И. С. Шмелева с освоения форм малой прозы. Его ранние рассказы и очерки позволяют проследить не просто этапы формирования авторского стиля, но некоторые тематические доминанты, которые перетекают из произведения в произведение.
Одной из таких доминант является тема детства, через призму которой Шмелев-художник и Шмелев-мыслитель раскрывает процесс душестроительства. У зрелого Шмелева этот процесс «происходит под воздействием православной религии, в связи с погружением в таинства религиозных обрядов, служб и праздников» [Пинаев: 10]. На ранних же этапах творчества писатель был подвержен влиянию социального критицизма и зарождающегося неореализма: посредством изображения социальной несправедливости писатель создает натуралистическое повествование о жизни «маленького человека», куль-минационно воплотившееся в произведении «Человек из ресторана» (1911). Л. А. Спиридонова так оценила этот этап: «…несмотря на явное влияние предшественников, Шмелев решает тему “маленького человека” по-своему. Его герой — не смиренный страдалец Пушкина и Гоголя, не “униженный и оскорбленный” Достоевского, не философствующий босяк Горького, а личность, в которой живет и страдает русская душа, ее неповторимая духовная сущность. Можно сказать, что именно с этого романа (“Человек из ресторана”. — А. С .) писатель начинает долгий и трудный путь постижения тайны внутреннего мира человека, обладающего живым чувством Бога» [Спиридонова: 30].
Дореволюционное творчество Шмелева часто обращено к детям. Как отмечает Э. В. Чумакевич, «по своему внутреннему складу, характеру мироощущения, любви ко всему живому, эрудиции и филологическому чутью к слову И. С. Шмелев как нельзя больше соответствует роли детского писателя» [Чумакевич: 36].
Тематическая наполненность шмелевских произведений для детей разнообразна и включает в себя многие «взрослые» вопросы, касающиеся разных сфер бытия. Примечательно, что именно в детских рассказах появляются герои нерусского происхождения, образы которых становятся сюжето-и смыслообразующими. Наиболее яркий пример — рассказы «Гассан и его Джедди» (1906) и на «Морском берегу» (1910)1. Произведения объединяет многое: место действия (черноморское побережье Кавказа); наличие повествователя (русского интеллигента), глазами и оценкой которого даются события; главные герои, являющиеся представителями южных национальностей (Гассан — турок, Димитраки — грек), плохо говорящие по-русски, прожившие долгую жизнь, полную трудностей и страданий, одиноко живущие на чужбине плодами своего труда (оба героя — рыбаки) и проявляющие доброту сердца и широту души через общение с ребенком (для Гассана — это его внучка Джедди, для Димитраки — русский мальчик Жоржик); оба рассказа заканчиваются смертью героев.
Эти сюжетные совпадения не просто свидетельствуют о проводимых Шмелевым литературных опытах по созданию определенных типов и оттачиванию писательского мастерства — анализ эволюции образов героев-иноплеменников помогает вскрыть глубинные пласты духовно-нравственной проблематики, ставшей основой всего шмелевского творчества. По замечанию Е. Г. Ивченко, «решение вопросов социального бытия в творчестве Шмелева всегда решается, исходя из четко определенной нравственной, морально-этической позиции писателя. Последняя, в свою очередь, определялась принципами Православной веры, в лоне которой протекала вся духовной жизнь И. С. Шмелева» [Ивченко: 24]. Между тем, по мнению В. Захаровой, «на общем фоне проблематики ранних рассказов Шмелева 1900-х годов человек в сфере религиозного сознания исследовался нечасто, — тогда у молодого автора доминировали социально-нравственные аспекты художественного анализа действительности» [Захарова: 9]. Однако отсутствие прямолинейной религиозности и обрядовости в дореволюционных произведениях Шмелева не означает отсутствия духовного, христианского начала, которое не просто было знакомо автору «На скалах Валаама», — оно пропитывало собою всю его жизнь. Адресуя свои рассказы детям, Шмелев показывает гармонию бытия, через земное приобщая к духовному. Герои-иноплеменники играют в решении этой задачи не последнюю роль, так как через обращение к иному, чужому более ярко проступает свое, родное, ибо «познание своего сопряжено с познанием чужого» [Лихачев: 207]. Художественноэтнографическое описание нерусских героев (акцент, элементы костюма, выделяющаяся внешность) не является для Шмелева первостепенной задачей: импрессионистически обозначая лишь некоторые проявления инонационального во внешнем облике, писатель концентрируется на реалистически достоверном изображении этнопсихологических особенностей, что приводит, в свою очередь, к выявлению общих экзистенциальных основ, емко и полно воплотившихся в христианских заповедях.
Одним из первых опытов по созданию литературного портрета нерусского героя стал для Шмелева образ турка Гассана. Сопоставление сохранившейся черновой рукописи рассказа «Гассан и его Джедди»2 с редакцией 1917 г., сделанное нами ранее (см.: [Скоропадская]), выявило тщательную стилизаторскую работу автора, направленную, прежде всего, на речевой портрет героя. Гассан не только инородец, но и иноверец, его этническая и конфессиональная принадлежность используются молодым автором для создания многогранного портрета «чужого» на уровне внешности, языка, поведения. Так, национальная принадлежность Гассана определяется по характерным элементам его костюма: феске и турецким туфлям с загнутыми носами. Вот, например, один из черновых вариантов начала рассказа — портрет Гассана и Джедди, данный глазами хроникера (повествователя), впервые увидевшего их:
«Шагахъ въ 10… стоялъ бронзовый турокъ въ фескѣ, длин-номъ чорномъ пиджакѣ и въ туфляхъ на босу ногу энергично вертѣлъ бичевой съ грузиломъ, собираясь забросить въ морѣ. Его стройная, сухая фигура съ вздрагивающей кисточкой фески, ярко рисовалась на фонѣ освѣщаннаго неба, какъ тѣневая картинка. Недалеко отъ него маленькая дѣвочка въ аломъ халатикѣ, и въ малиновыхъ бархат-ныхъ туфелькахъ съ золотомъ, раскрывъ пунцовыя губки, слѣдила, какъ старикъ вертѣлъ бичеву» (ед. хр. 23; л. 1).
Этот относительно небольшой отрывок (нами приведен последний слой правки), состоящий из трех предложений, содержит двадцать вариантов авторской правки, самые значительные из которых указывают на тщательную работу Шмелева по поиску наиболее ярких и емких этнопоэтических акцентов. Так, вместо цветовых определений одежды Джедди — халатика («алый») и туфель («малиновые») — сначала использовалось прилагательное «красный». Символика цвета — один из важнейших компонентов поэтики Шмелева, выступающий в том числе и как маркер границы определенной культуры3: подбирая определению «красный»4 цветовые синонимы, писатель не просто конкретизирует цветовой оттенок, но вносит в него специфическое национальное наполнение, импрессионистически отражающее особенности турецкого костюма. Избегая избыточности этнических черт в описании одежды, автор убирает деталь халатика «обшитый позументом», а в редакции 1917 г. описание костюма Джедди сокращается еще значительнее:
«н едалеко отъ него маленькая дѣвочка въ аломъ 5 халатикѣ и въ малиновыхъ бархатныхъ туфляхъ »6.
Этноконфессиональная принадлежность, наряду с контаминированной речью, — ярчайший признак создаваемого образа героя-турка. Так, первая встреча с Гассаном и Джедди, с которой начинается рассказ, ознаменована сценой мусульманской молитвы — намаза:
«т урокъ пробормоталъ что-то, быстро собралъ снасть, вы-тащилъ тряпку, разостлалъ ее на камняхъ и опустился на колѣни. Джедди стала съ нимъ рядомъ и сложила ладошки. Они творили молитву »7.
Изображая исламский религиозный обряд, Шмелев не использует непосредственных его номинаций. Как отмечает С. В. Шешунова, «повествователь <…> по возможности избегает слов, связанных со спецификой турецкой (и вообще мусульманской) культуры, предпочитая заменять их лексикой, лишенной культурных коннотаций или даже имеющей западноевропейское происхождение: Гассан и Джедди “творили молитву”, а не “совершали намаз”; Джедди — “маленькая фея”, а не “пери”» [Шешунова: 108].
Несмотря на то, что в описании Гассана присутствуют оценочные элементы («быстро затрепетала уморительная кисточка», «смешно затрепетала его кисточка на феске»), выводящие в сферу комического, в целом, образ комическим не становится. Причиной этого, на наш взгляд, является продуманная философская идея, положенная в основание рассказа — идея гуманизма, подпитанная нравственными заповедями христианства. Ломаная речь инородца Гассана коррелирует с ломаной речью ребенка, начинающего осваивать язык. Чистая душа Гассана, как и чистая детская душа («я увезъ бы печальный, милый образъ Джедди и добродушнаго Гассана съ его дѣтской вѣрой въ свѣтлое будущее…» — ед. хр. 23; л. 7 об.), оказывается способной принять сложность мироустройства. И принятие это происходит благодаря приобщению к гуманистическим ценностям христианства.
Создавая образ турка, Шмелев не просто следует традициям русской классической литературы, многократно обращавшейся к описанию иностранцев. Этническая характеристика, проработанная писателем на портретном, языковом, поведенческом уровнях, не становится главной целью. Через мир турецких рыбаков, наполненный трудом, опасностями и унижениями, писатель показывает несправедливость, царящую в мире и касающуюся всех бедных людей вне зависимости от их национальности. Уязвимость перед лицом стихии, неминуемость смерти также не связаны с национальной принадлежностью: в шторм гибнут и русский пограничник, и турецкий моряк; богатство грека Никапуллы, отправившего на верную гибель отца Джедди, не делает его бессмертным. На этом фоне духовно-нравственные ориентиры становятся теми маячками, которые освещают жизненный путь героев, наполняют его смыслом.
Испив до дна чашу горестей и потерь, Гассан находит поддержку в лице русского путешественника, рассказывающего об утешении, даваемом христианской верой. Шмелев не показывает переход из одной веры в другую: Гассан принимает христианские представления, не отказываясь от ислама. Детская чистота души героя помогла ему понять всеприми-ряющую природу христианства настолько, чтобы пожертвовать своей жизнью ради других, чужих ему людей.
Схожий образ старика-иноплеменника Шмелев создает и в рассказе «На морском берегу». Сохранившиеся разрозненные рукописные и машинописные черновики рассказа8 и их сопоставление с последним прижизненным изданием 1913 г.9 позволяют подробно восстановить эволюцию образа грека Димитраки, скрупулезно прописываемого Шмелевым. Так, в двух папках рукописных материалов (карт. № 4, ед. хр. 13 и 14) содержатся отрывок рассказа в черновой рукописи и разрозненные машинописные листы разных редакций, среди которых можно обнаружить три варианта первой встречи с Димитраки на берегу, два варианта посещения «норы» Ди-митраки и три варианта окончания этого посещения. Несмотря на то, что листы в одной из папок (ед. хр. 14) сюжетно и хронологически окончательно не систематизированы, именно указанные сцены позволяют восстановить этапы работы над образами и сюжетом. Так, несомненно, что разработка образа начата на листах 30, 33–33 об.: здесь находится отличающееся от прочих черновых и от окончательной печатной редакции описание первого появления героя-грека, которого зовут Сократ и который ежедневно за деньги приносит вылавливаемых черепах капитану, ведущему непримиримую борьбу с этой «дрянью». Эти коммерческие отношения проходят на глазах не только повествователя, но и Жоржика, при котором капитан откровенно рассказывает о целях такого «коллекционирования»:
«И высчиталъ, что одна черепаха можетъ уничтожить въ день фунтъ винограду. Сто черепахъ — сто фунтовъ, тысяча — тысячу…
— Милліонъ — милліонъ… — сказалъ Жоржикъ.
— Вѣрно, — удостовѣрилъ капитанъ. Не считая порчи отъ побѣговъ. И я спасу многое. Я занялся ихъ систематическимъ уничтоженіемъ. Черезъ годъ здѣсь не останется ни одной! Ручаюсь. Какъ вы на это смотрите?
— Ты уничтожишь милліонъ черепахъ? — спросилъ Жор-жикъ.
— Теперь онѣ у меня подъ замкомъ, въ погребѣ. Я завтра вамъ покажу.
— Ты кормишь ихъ?
— Не говори глупости. Въ прошломъ году я уничтожилъ ихъ свыше семисот<ъ>. И всѣ говорятъ, что порчи меньше» (ед. хр. 14; л. 30).
Автор начинает разрабатывать сюжет, противопоставляя рационализм и практичность капитана вековым обычаям местных жителей. Здесь отметим достаточно прозрачно разрабатываемое автором начало рассказа, которое строится на противопоставлении рационализма и практичности капитана обычаям местных жителей. Капитан недавно приехал в эти края и полон планов по преобразованию своей усадьбы в цветущий рай:
«А они, видите ли, — суевѣріе что ли у нихъ, или… не знаю но греки ихъ не уничтожали. Только и занимались, что перешвыривали изъ сада въ садъ. И даже убытковъ не высчитали. Халатность» (ед. хр. 14; л. 30).
Но эта прозрачность оказывается чересчур прямолинейной и не позволяет придать желаемую духовную глубину образу Сократа10. В последующих вариантах роль героя-грека значительно перерабатывается: изменяется имя11, устраняется описание его предыдущего знакомства с капитаном и собирания для него черепах, а первая встреча с Жоржиком и его воспитателем (повествователем) переносится на морской берег, где Димитраки ловит крабов. Шмелев методично подбирает штрихи к портрету героя, целенаправленно лишая его, например, коммерческой жилки:
Ι. «— Послушайте, вамъ зачѣмъ крабъ
Старикъ поднялъ голову. <…>
— Чего? — спросилъ онъ. — Ааа… Карабы… кушать можна.
<…> Господа покупаютъ, кушаютъ… — сказалъ старикъ. — Не надо? — показалъ онъ на свой товаръ… — На-ка…» (ед. хр. 14; л. 23 об.).
ΙΙ. «— У васъ что въ мѣшкѣ? крабы?
— Карабы… — Господа покупаютъ кушать. Хочешь посмотрѣть?» (ед. хр. 14; л. 26 об.).
-
iii. « — в амъ зачѣмъ крабъ?
— Карабъ? Продавалъ нужна… Хорошъ?
Онъ посмѣиваясь, поднесъ къ носу Жоржика краба, яростно пощолкивавшаго клешнями. Жоржикъ откинулся.
— Хе-хе… Большой маленькій боится… Совсѣмъ какъ тара-канъ. Бери спинку… » (ед. хр. 13; л. 13).
Торговля остается для Димитраки источником пропитания (не дохода и не наживы), но Шмелев различными способами показывает, что это занятие — вынужденное в силу возраста и слабого здоровья героя. Димитраки торгует тем, что сам добыл или сделал, он с легкостью может подарить свой товар или отдать за очень небольшие деньги понравившимся ему людям.
Образ жизни Димитраки обусловлен его мировоззрением: «Мори даетъ… Человѣкъ ничего не даетъ… Море не былъ — помиралъ… Богъ море далъ…» (ед. хр. 13; л. 14); «Господа покупалъ лѣто, деньжи давалъ, жилъ. Такъ не давалъ. Земля такъ давалъ…» (ед. хр. 13; л. 16). Димитраки живет трудами своих рук и уверен, что море и земля, созданные Богом, прокормят, не оставят голодным. И отсюда у грека непреходящее уважение ко всему живому, неподдельное любование природой, в которой все гармонично и поэтому прекрасно. В какой-то мере Димитраки воплощает собой Христову заповедь: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их» (Мф. 6:26). В то же время старик не перестает трудиться, ловя крабов, обрабатывая свой огородик и, главное, создавая чудесные вещи, покоряющие своей красотой.
Созидательная красота труда — важнейшая характеристика художественного мира Шмелева, где «предметный мир не только не порабощает человека, но освобождает от власти повседневности, вовлекая в мир гармонии, ласки и лада» [Дзыга: 101].
Черновые варианты рассказа свидетельствуют, как писатель подбирает варианты обозначения этнической принадлежности героя. Так, в процессе знакомства Жоржик задает вопрос: «Вы не русскій? У васъ есть Богъ?» (ед. хр. 14; л. 27), на который получает ответ: «Есть. Русскій, грекъ, въ одну вѣру вѣруютъ12. Крестъ носятъ…» (ед. хр. 14; л. 27). Однако в последующих вариантах вопрос о национальности и вере убирается из речи ребенка: этническая принадлежность передается через описание внешности Димитраки («Старикъ оглянулъ насъ и молча приподнялъ шляпу. Мы увидали сморщенно<е,> совсѣмъ коричневое отъ загара лицо и еще чорные усы. По типу это былъ грекъ» — ед. хр. 13; л. 12), а общность религии не обозначена прямолинейно. Так, на христианскую веру грека указывает наличие иконы в его жилище («Въ углу, едва видный отъ копоти висѣлъ образокъ и лампадка съ подвязаннымъ снизу пучкомъ засохшихъ цвѣтовъ» — ед. хр. 13; л. 16) и упоминание Святого Николая в рассказе Димитраки об опасностях плавания в Россию («Шторма шумѣлъ, восемь шторма шумѣлъ, доплылъ. Никола довелъ» — ед. хр. 13; л. 20).
Такое редуцирование религиозной тематики, на наш взгляд, свидетельствует о том, что для Шмелева теряет актуальность прямолинейное утверждение конфессионального единства русских и греков: родство двух (пусть древних и великих) народов не может превзойти родства всего человечества. Поэтому символический смысл произведения заключается в рассказе Димитраки о «большой книге». В черновых записях фиксируются два варианта этого рассказа:
-
I. « — Такой книга есть, большой, какъ камень… — началъ онъ. — Тамъ все сказано, весь законъ. Писалъ книгу всѣ святые… Кому Богъ скажетъ, — напишутъ. И вотъ мнѣ одинъ старикъ говорилъ у насъ, въ Грецій, все говорилъ. Кто ту книгу читалъ, — совсѣмъ святой будетъ. Да. Тамъ сказано — не убива-й. Тамъ сказано — не воруй, тамъ сказано — люби все. Тамъ сказано: жалѣй! <…> Тамъ написали: — терпи! Тамъ написали — не обмануй! Тамъ написали буть всѣ братъ, всѣ равенъ. Всѣ хорошъ! Тамъ написали — Димитраки выпрямился во в<е>сь ростъ и даже поднялъ палецъ и голосъ его слышалась торжественность — Тамъ все написали… Всѣ написали. Читай всѣ — зна<й> всѣ — хорошо! Не надо тамъ рай, тутъ рай!» (ед. хр. 14, л. 28).
-
II. «У насъ, въ Греціи, одинъ старый старикъ говорилъ. Такой старый, такой… какъ снѣгъ. Такой книга есть, бульшой такой книга, какъ камень…. Сто целовѣкъ не поднялъ, тысяча не под-нялъ. Такой книга. Тамъ все написалъ Богъ. Всѣ святый написалъ. Богъ сказалъ — святый писалъ. Хорошо! Читалъ книгу не уми-ралъ. Тамъ написалъ: будь всѣ хорошъ, всѣ братъ. Тамъ написалъ: жалѣй! Тамъ написалъ не бери, не рѣжъ, не обмануй! <…> Тамъ написали: терпи! Хорошо написали… Знай всѣ — хорошо! » (ед. хр. 13; л. 18).
Как видно, первый вариант имеет явную соотнесенность с библейскими заповедями по содержанию, по заложенному в нем императиву, по стилистике кратких, отрывистых предложений. Облик Димитраки приобретает торжественность и величавость пророка, провозглашающего Божью волю.
Второй вариант представляет не смысловую, а стилистическую трансформацию: исчезает категоричность и прямые ассоциации со Священным Писанием. Димитраки демонстрирует народное осмысление библейских заповедей, перелагая их разговорным языком и выделяя самое понятное в их содержании.
Приятие жизни со всеми ее горестями и радостями — качество Димитраки, восхищающее повествователя и привлекающее Жоржика. «Нора» старого грека становится для русского мальчика точкой притяжения, волшебным местом, полным чудес, а его рассказы — уроками жизни. Димитраки приобретает в глазах ребенка неоспоримый авторитет. По замечанию О. А. Со-сновской, «образ наставника, часто встречающийся как в ранних, так и в зрелых произведениях писателя — один из ключевых и наиболее важных» [Сосновская: 315–316]. Формально наставнические функции выполняет повествователь (он — гувернер), но его обязанности сводятся к обучению Жоржика наукам и грамоте, а также к организации режима дня. «Заказчиком» услуг гувернера выступает дядя Жоржика, капитан, человек сурового нрава и прагматических взглядов на жизнь, который хочет «приучить к порядку» слишком чувствительного племянника и подготовить его к жестким реалиям действительности. Но чистота и наивность Жоржика противостоят педагогическому напору взрослых, а переросшее в дружбу общение с Ди-митраки становится для ребенка подтверждением интуитивно чувствуемых заповедей, так просто и понятно изложенных в «большой книге».
Повествователь предлагает свое осмысление рассказа о книге — осмысление взрослого образованного человека, которое изначально содержало ярко выраженные оценочные суждения:
-
i. «и мнѣ онъ <д имитраки > былъ симпатиченъ съ своей дѣтской хорошей вѣрой въ правду, записанную въ большую книгу, съ своимъ удивительно мягкимъ сердцемъ » (ед. хр. 14, л. 29 об).
В следующих вариантах Шмелев снимает прямолинейную оценочность и прибегает к приему объективизации, воспроизводящему внутренний диалог повествователя, пытающегося найти объяснение рассказу Димитраки:
I. «И я раздумывалъ о Димитраки <…> сидитъ въ горной разсѣлинѣ, одинъ <…> И вѣритъ въ вѣчную правду, которую скрыли, но которая записана въ огромной книгѣ жизни. Что это за книга? Не отголосокъ ли о Голубиной книгѣ занесло на островъ Хіосъ и украсило восточной фантазіей? И я чувствовалъ, что бъется въ душѣ Димитраки несознаваемая тоска по хорошей жизни, по великому счастью, которое должно же когда-нибудь воцариться на землѣ, смягчить изболѣвшія сердца, отереть невысыхающія слезы» (ед. хр. 14; л. 30. об).
Этим писатель стремится раскрыть характер грека:
-
ii. «о ткуда такая сила? и вѣритъ въ правду, неизмѣнную правду, которая пока еще скрыта но которую откроютъ въ огромной, куда-то запрятанной книгѣ. Что это за книга? Не отголосокъ ли о Голубиной книгѣ занесло на островъ Хіосъ? И въ какія краски украсила? Или же въ душѣ Димитраки бился невысказанная тоска по хорошей тихой жизни, по тому великому счасть<ю,> которое должно же когда-нибудь явиться на землю и просвѣтить заплаканные глаза смягчитъ изболѣвшіяся сердца » (№ 14, л. 5).
В последнем варианте Шмелев существенно сокращает рассуждения повествователя, концентрируясь на образе «большой книги», которая соединяет в себе азиатские / исламские ( шайтан ) и восточно-славянские / христианские черты ( Голубиная книга, русские дороги ):
-
iii. «в ѣритъ въ вѣчную правду, которую скрылъ шайтанъ, но которую все же найдутъ. И что это за книга? Не Голубиная ли, о которой еще и до сихъ поръ поютъ слѣпцы по русскимъ безъ конца и края дорогамъ » (ед. хр. 13; л. 21).
Шмелев тщательно подбирает образно-смысловые детали, по-разному комбинируя психологические, социальные, культурологические наблюдения. В результате «большая книга» Димитраки приобретает вненациональные и вневременные черты, бережно хранимые в народной поэтической памяти13: древнегреческий эпос (отсылка к нему происходит в сравнении Димитраки с Одиссеем), славянские духовные стихи, мусульманская мифология сливаются воедино, воплощая тот духовный абсолют, который лежит в основе вселенского существования. «“Чужое” перестает быть “чужим”, т. к. в нем прозревается, или, лучше сказать, мерцает вселенский евангельский образ — в равной степени родной и для России, и для христианского мира в целом» [Есаулов: 7]. Это утверждение И. А. Есаулова, высказанное им в отношении категорий «свое» / «чужое» в романе Достоевского «Идиот», вполне применимо и к пониманию «чужого» Шмелевым.
Образ иноплеменника, «чужого», становится для Шмелева художественным инструментом, показывающим не только этническое, социальное, религиозное разнообразие мира, но и некие незыблемые духовные основы, утверждаемые христианскими заповедями. Культурно-этническая мозаика соединяется в цельную картину жизни, лик Божьего мира, где «нет ни Еллина, ни Иудея» (Кол. 3:11) и где ценность человека определяется его духовной цельностью.
Примечания
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-012-00381а.
-
1 Согласно описанию литературных трудов И. С. Шмелева, составленному Д. М. Шаховским, рассказ «Гассан и его Джедди» был впервые опубликован в журнале «Юная Россия» в 1906 г. (№ 4. С. 485–497) [Шаховской: 58], а рассказ «На морском берегу» — в иллюстрированном журнале для детей «Родник» в 1910 г. (№ 3. С. 299—354) [Шаховской: 62].
-
2 ОР РГБ. Ф. 387 (Шмелев). Карт. 1. Ед. хр. 23. 10 л. Рукопись прочитана А. А. Скоропадской и О. А. Сосновской. Далее ссылки на автограф приводятся в тексте статьи с указанием единицы хранения и листа в круглых скобках.
-
3 Подробно об этом см.: [Мерцалова].
-
4 По наблюдениям, например, Ю. А. Карташовой, фундамент цветового макрополя «составляют общеупотребительные, стилистически нейтральные, узуальные колоративы, т.е. те цветовые прилагательные русского языка, в которых сема цвета обнаруживает себя <…> в качестве ядерной» [Карташова: 8], и одним из таких колоративов является красный . Подробное фоно-семантическое сравнение цветообозначения «красный» в славянских и тюркских языках см.: [Инандж].
-
5 Прилагательное алый — тюркизм в русском языке, восходящий к древнетюркскому « al» «алый, ярко-красный, светло-розовый» (См.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М.: Прогресс, 1986. Т. 1. С. 73).
-
6 Шмелев И. Гассан и его Джедди. Рассказ. М.: Юная Россия, 1917. С. 4.
-
7 О роли фольклора в поэтике Шмелева см. [Гудзова].
Список литературы Образы иноплеменников в ранней прозе И. С. Шмелева
- Абишева У. К. Неорелизм в русской литературе 1900-1910-х годов: дис.. д-ра филол. наук. - М., 2006. - 394 с.
- Горбатько В. А. Инонациональный характер в русской литературе 20-30-х годов ХХ века как фактор историко-литературного развития (Актуальная ретроспекция перед лицом новой действительности): дис.. канд. филол. наук: 10.01.01. - Краснодар, 2001. - 197 с.
- Гудзова Я. О. Поэтическое слово народа в творчестве И. С. Шмелева // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. - 2018. - № 3 (30). - С. 38-44.
- Дзыга Я. О. Бытописание И. С. Шмелева и традиции русской литературы // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. - Сургут. - 2011. - № 2. - С 99-105.
- Дзыга Я. О. На перекрестке традиций: новый «маленький человек» в творчестве И. С. Шмелева и А. И. Куприна // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистики. -2016. - № 1. - С. 16-21.
- Есаулов И. А. Родное как вселенское в национальном образе мира: отечественная словесность и «русская идея» // Литературоведческий журнал. - 2011. - № 28. - С. 5-16.
- Захарова В. Т. Поэтика прозы И. С. Шмелева: монография. - Нижний Новгород: Мининский университет, 2015. - 106 с.
- Ивченко Е. Г. Художественные искания И. С. Шмелева: публицистический аспект: дис.. д-ра филол. наук: 10.01.10. - Краснодар, 1998. - 340 с.
- Инандж Этибар Сафтар оглу. Слова цветообозначения «черный» и «красный» в славянских и тюркских языках // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота, 2014. - № 4. - Ч. 3. - С. 86-92.
- Карташова Ю. А. Функционально-семантическое цвето-световое поле в лирике Игоря Северянина: автореф. дис.. канд. филол. наук: 10.02.01. - Барнаул, 2004. - 20 с.
- Лихачев Д. С. Об искусстве слова и филологии // Лихачев Д. С. О филологии. - М.: Высшая школа, 1989. - С. 204-207.
- Мерцалова О. С. Художественная объективизация цветового восприятия в произведениях И. С. Шмелева и Б. К. Зайцева: 1920-1930-х гг.: дис.. канд. филол. наук: 10.01.01. - Орел, 2007. - 205 с.
- Пинаев С. М. Жанр и поэтика автобиографических очерков И. С. Шмелева // Вестник РУДН. Сер. Литературоведение. Журналистика. - 2015. - № 2. - С. 7-13.
- Скоропадская А. А. Поэтика иноязычной речи в рассказе И. С. Шмелева «Гассан и его Джедди» // Проблемы исторической поэтики. - 2018. - Т. 16. - № 4. - С. 157-173 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1544631228.pdf (12.01.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.2018.5541
- Сосновская О. А. От «Света знания» к «Свету разума»: образ детства в прозе И. С. Шмелева 1906-1910 гг. // Проблемы исторической поэтики. - 2016. - Вып. 14. - С. 311-332 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1482828566.pdf (12.01.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.2016.3801
- Спиридонова Л. Художественный мир И. С. Шмелева: монография. - М.: ИМЛИ РАН, 2014. - 240 с.
- Федотов О. И. Православная Пасха на родине и на чужбине // Религиоведение. - 2013. - № 1. - С. 149-158.
- Чумакевич Э. В. Духовно-нравственное становление личности героя в дилогии И. С. Шмелева «Богомолье» и «Лето Господне»: дис.. канд. филол. наук. - Минск, 1993. - 196 с.
- Шаховской Д. М. Иван Сергеевич Шмелев: Библиография. - Париж: Institut d'études slaves, 1980. - 129 с.