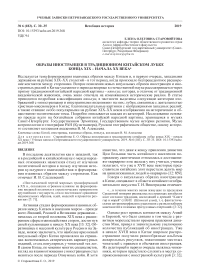Образы иностранцев в традиционном китайском лубке конца XIX - начала XX века
Автор: Старовойтова Елена Олеговна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6 (183), 2019 года.
Бесплатный доступ
Исследуется тема формирования взаимных образов между Китаем и, в первую очередь, западными державами на рубеже XIX-XX столетий - в тот период, когда произошло беспрецедентное расширение контактов между сторонами. Вопрос появления новых визуальных образов иностранцев и иностранных реалий в Китае указанного периода впервые в отечественной науке рассматривается через призму традиционной китайской народной картины - няньхуа, которая, в отличие от традиционной академической живописи, очень живо отвечала на изменявшиеся исторические реалии. В статье приводится подробная классификация няньхуа, в частности выделены следующие категории изображений с «иностранцами и иностранными явлениями» на них: лубки, связанные с деятельностью христиан-миссионеров в Китае; благопожелательные картинки с изображениями западных реалий; а также ставшие особо популярными на рубеже XIX-XX веков изображения на исторические и общественно-политические темы. Подробно описывается каждая из категорий. Исследование основано прежде всего на богатейшем собрании китайской народной картины, хранящемся в музеях Санкт-Петербурга: Государственном Эрмитаже, Государственном музее истории религии, Музее антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера), Русском географическом обществе, основу которого составляет коллекция академика В. М. Алексеева.
Китай, иностранцы, взаимные образы, няньхуа, коллекция в. м. алексеева
Короткий адрес: https://sciup.org/147226495
IDR: 147226495 | УДК: 94 | DOI: 10.15393/uchz.art.2019.368
Текст научной статьи Образы иностранцев в традиционном китайском лубке конца XIX - начала XX века
В последние десятилетия как в западной, так и в российской и китайской науке о международных отношениях наметился отход от изучения политической истории в пользу изучения истории культурного взаимодействия и формирования взаимных образов между сторонами. Как отмечает И. В. Следзевский:
«Неотъемлемой чертой мировых трансформаций в XX в., оказавших огромное влияние на формирование внешней политики и стратегических приоритетов крупнейших государств, стало постоянное сравнение национальных образов, идей, моделей и проектов развития» [7: 71].
Активная стадия формирования взаимных образов между Китаем и внешним миром – прежде всего Японией, Россией и Великими державами – началась со второй половины XIX века с расширением сферы взаимодействия сторон, достигнув своей кульминации к началу XX века [13: 32]. Обратившись к массовой культуре в России и на Западе, можно заключить, что наиболее ярко новый визуальный образ Китая проявлялся на страницах всевозможных сатирических карикатурных изданий, столь популярных у читателей тех лет. В самом Китае, по мнению многих специалистов, взгляд на взаимоотношения с иностранцами стал меняться после периода Опиумных войн. И хотя известно, что даже к концу правления династии Цин большая часть китайского населения по-прежнему скептически относилась к достижениям «варваров» и не желала у них учиться, ученые полагают, что уже в XVII веке некоторые представители китайских элит перестали делить мир на цивилизованных людей и «варваров» [12: 859].
Говоря о визуальных образах иностранцев в Китае, специалист в области китайского изобразительного искусства Т. И. Виноградова отмечает:
«…в течение многих веков живущие за пределами Срединной империи рисовались на страницах китайских книг согласно традиции, восходящей к древней “Книге гор и морей” ( 山海經 ( Шаньхай цзин )), т. е. фантастическими антропоморфными существами с разным набором конечностей и головами причудливых очертаний» [3: 32].
Однако рост прямых контактов между Азией и Европой, что было связано в том числе с развитием мореходства во времена правления династии Мин, привел к значительному увеличению количества публикаций об иностранцах. Уже в начале XVIII века в Китае широкое распространение получили разнообразные альбомы акварельных рисунков, знакомящие местных читателей с нравами и обычаями иностранцев. Их аудиторией в первую очередь являлись чиновники, которым предстояло служить в местах соприкосновения с иностранной культурой [3: 32].
По мнению современного специалиста в области истории книжного дела в императорском Китае Хэ Юймин, одним из наиболее популярных изданий подобного рода тех лет стал трактат « Лочун лу »1 ( 臝蟲錄 (Record of naked creatures)), широко распространенный среди большого количества читателей в разных кругах общества с начала XVI века. Трактат представляет собой печатный текст, в котором собраны изображения и описания более ста видов « лочун» (букваль-но: обнаженных существ), также известных как « и» 夷 (варвары, иностранцы). Статьи трактата, организованные под заголовками для различных «го» (государство), охватывают страны Азии и региона Индийского океана, Ближнего Востока, Северной Африки и Европы (Сицилия). Исследователь отмечает, что основное внимание в тексте уделяется «внешним варварам» ( 外夷 ), проживающим за пределами территории «Срединного государства» ( 中國 ), но рассказывается и об этнических группах на этой территории, в том числе о легендарных странах, упоминаемых в более ранних китайских текстах, таких как «Книга гор и морей». Более того, подобно этому трактату, с которым при Мин он часто использовался совместно, в « Лочун лу » сделан акцент не только на письменных отчетах об экзотических народах, но и на «диковинных» изображениях, что было тесно связано с расцветом индустрии печатных иллюстраций баньхуа ( 版画 ) в то время [10: 44–47].
Хэ Юймин выделяет еще одно сочинение об иностранцах, вдохновленное « Лочун лу », – трактат « Дунъи тушо » ( 東夷圖說 (Pictures and descriptions of eastern barbarians)), составленный в 1586 году заместителем главы администрации провинции Гуандун цзиньши2 Цай Жусянем ( 蔡汝賢 ). Трактат состоит из 20 глав, частично скопированных из « Лочун лу », с новыми добавлениями, такими как Португалия. Этот трактат примечателен в том числе потому, что Цай Жу-сянь в заглавии говорит о необходимости изучать и описывать обычаи иноземцев в сравнении с нравами жителей Срединного государства, ведь даже среди последних имеются значительные отличия. Хэ Юймин полагает, что Цай Жусянь таким образом выразил «общечеловеческое понимание взаимной референтности понятий “мы” и “они”» [10: 67–68].
В XIX веке Китай лицом к лицу столкнулся с опасностью со стороны западных держав, что не могло не отразиться на традиционном мировоззрении, вызывая различные реакции со стороны представителей интеллектуальной элиты Цинского государства. Многие мыслители тех лет высказывали свое мнение о «западных варварах», предлагая те или иные пути взаимодействия с ними. Норвежский китаевед Эрлинг Агой в своей работе, посвященной описанию иностранцев в традиционных китайских исто- рических и литературных сочинениях, особо выделяет географический справочник «Хайго тучжи» (海國圖志 (Illustrated Treatise on the Maritime Kingdoms)), изданный в 1843 году в ответ на поражение Китая в первой Опиумной войне. Считается, что сборник был составлен знаменитым чиновником и ученым Вэй Юанем (魏源) по указанию знаменитого государственного деятеля первой половины XIX века Линь Цзэсюя (林則徐), который лично провел большую часть работы для подготовки начальной версии справочника. Во введении к справочнику Вэй Юань делится с читателями своими взглядами на взаимоотношения империи Цин с иностранцами. В частности, он предлагает правительству прежде всего развивать торговые и коммерческие отношения с ними, сделав акцент на отношениях со странами Юго-Восточной Азии (南洋). Большую же часть справочника составляют описания различных стран мира – от стран Юго-Восточной Азии (Сиам (暹羅), Бирма (緬甸)) до России (俄羅斯), США (彌利堅), Турции (都魯機) и др., в том числе, например, Чили (智利). Наиболее объемная глава посвящена Великобритании (英吉利). В каждой статье внимание уделяется истории, географии, военным аспектам и торговле, хотя также встречаются описания местных традиций и обычаев. В справочнике имеются раздел со сведениями о католицизме (天主教), сравнение западного и китайского календарей, описание западного образа мышления. Работа выходила в 1843, 1847 и 1852 годах. Каждое последующее издание существенно расширялось, прежде всего за счет стремительно растущего количества новых сведений о Западе. Однако до 1860-х годов издание не имело большой популярности и распространялось среди узкого круга читателей в прибрежных районах Китая. Как подчеркивает Агой, несмотря на то что данное издание называют величайшей работой по геополитике в императорском Китае, оно никак не повлияло на политику империи Цин в отношении стран Запада, а служило лишь источником информации о них3.
Вводная часть « Хайго тучжи », составленная лично Вэй Юанем, описывает иностранцев с использованием традиционно уничижительного термина « и » и изображает их как источник военной угрозы, из которого Китай мог бы, в лучшем случае, почерпнуть некоторые технологии. Однако в разделах по странам, которые представляют собой в основном перевод иностранных источников, жители других государств обычно не изображаются как нецивилизованные. По мнению норвежского специалиста,
«справочник не только передает иностранные взгляды посредством перевода, но показывает, как новая международная ситуация повлияла на мировоззрение китайцев»4.
Как уже говорилось выше, подобные сочинения не имели большого распространения среди широкого круга китайских читателей, будучи популярны в основном среди представителей китайского чиновничества, служивших в районах соприкосновения с западными державами. Однако расширение контактов Китая с Западом со второй половины XIX века, а также появление в китайском быту «заморских диковинок» не могло не повлиять на формирование особого образа иностранцев в народной культуре.
Одним из наиболее распространенных визуальных «носителей» информации в Китае традиционно являлся китайский народный лубок няньхуа . Обычай украшать дом в канун Нового года яркими печатными картинками с различной благопожелательной символикой, изготовляемыми методом ксилографии, появился в Китае еще в XII веке. Со второй половины XIX века, как отмечает Г. С. Гультяева,
«художественное творчество няньхуа получило массовое распространение и сформировалось в самостоятельный вид изобразительного искусства»5, а в начале XX века с появлением новой технологии печати популярность таких изображений среди всех слоев китайского населения еще больше возросла.
Первым собирателем подобных народных картин в России стал выдающийся русский синолог академик Василий Михайлович Алексеев. Начиная с 1906 года, когда он впервые посетил Китай, ему посчастливилось посетить более 50 основных центров производства китайских народных лубочных картин, и он начал коллекционировать их в рамках проекта по изучению местного фольклора. Ученый собрал огромное количество новогодних картин – около 3000 экземпляров. Согласно завещанию академика, его обширная коллекция, пополненная в 1912 и 1926 годах во время поездок в южный Китай, была разделена между основными музеями Ленинграда, которые пополнили свои собрания новогодних картин в 1960–1980-х годах. Большая часть этих изображений (около 2000 картин) в настоящее время хранится в Государственном Эрмитаже. Сегодня музеи Санкт-Петербурга, такие как Эрмитаж (ГЭ), Музей антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера), Государственный музей истории религии (ГМИР), Русское географическое общество (РГО), являются владельцами уникальной коллекции няньхуа – более 4500 экземпляров. Только собрания народных картин в самом Китае могут соперничать с этой коллекцией.
Ученица В. М. Алексеева, долгое время являвшаяся хранителем коллекции китайской народной картины в Эрмитаже, М. Л. Рудова выделила пять основных групп таких произведений по тематическому признаку:
-
1) «новогодние картины с культовой и обрядовой сторонами празднования Нового года, то есть с религиозными сюжетами»; 2) «картинки, сюжеты которых насыщены благопожелательной символикой», которые
автор называет «главными в искусстве новогодней картинки»; 3) «новогодние картинки с изображением бытовых сцен из народной жизни»; 4) «литературная группа: картинки-иллюстрации к мифам, легендам, романам, рассказам»; 5) «театральная новогодняя картинка» [6: 12–16].
Г. С. Гультяева расширила этот перечень двумя дополнительными типами китайских народных новогодних картин:
-
6) «картины на политические темы», в которых отражались общественно-политические события XX века;
-
7) «календарные картины с изображением 12 циклических знаков животных и сельскохозяйственные календари», а также «рекламные календари»6.
Знаменитый британский синолог XX века Джон Ласт в монографии « Chinese popular prints » впервые обратил внимание на возможность классифицировать няньхуа не только по их тематике, но и по «целевой аудитории»:
«Лубки для селян служили календарным справочным пособием по времени производства сельскохозяйственных работ; лубки для детей (а именно мальчиков)… выполняли для них образовательную и защитную функцию; лубки для коммерсантов привлекали внимание покупателей и т. д.» [11: 212–241] (цит. по: [8: 96]).
Первые изображения иностранцев и «заморских диковинок» появились на китайском лубке еще в XVIII веке [1: 33], однако заметный рост количества подобных картин произошел в 90-е годы XIX века как ответ на расширение сферы взаимодействия империи Цин с внешним миром. Такие няньхуа , обычно датируемые 1890–1920-ми годами, можно разделить на несколько основных групп: 1) Изображения, связанные с деятельностью христиан-миссионеров в Китае. Зачастую это антихристианские рисунки, изображающие деятельность миссионеров в самом неприглядном виде и призывающие к борьбе с ней. 2) Традиционные благопожела-тельные лубки с «западными реалиями» на них: домами, предметами обихода, деталями костюма и т. д. Такие картинки стали популярны в начале XX века вслед за все большим распространением в китайском быту «европейских новшеств». 3) Картины на исторические и общественно-политические темы, рассказывающие в том числе об отношениях Китая с иностранцами. Как отмечают специалисты, этот жанр впервые возник именно на рубеже XIX–XX веков.
ИЗОБРАЖЕНИЯ ХРИСТИАН-МИССИОНЕРОВ
Как подчеркивал академик В. М. Алексеев, христианство было чуждо конфуцианству, как и буддизм, однако
«в то время как буддисты просто не обращали внимания на пренебрежение конфуцианцев, христианство, чувствуя в конфуцианстве врага, все время сражалось с ним» [1: 148].
Он был убежден в том, что:
«европейцы, принесшие христианство, не могли понять китайскую культуру. Миссионеры изучали Китай лишь с целью учить его. Сами христианские миссии вели между собой войну. … [Миссионеры зачастую] шли на шпионаж, политику поблажек, и, конечно, паства состояла главным образом из карьеристов и вообще скверных элементов» [1: 148].
Противоречия между христианством и традиционными китайскими верованиями, а также растущее давление со стороны западных держав после поражения Китая в Опиумных войнах привели к многочисленным протестам против христиан (как миссионеров, так и обращенных китайцев). Так, в ходе серии антихристианских беспорядков 1891 года, затронувших более 10 городов вдоль р. Янцзы – от Нанкина до Ичана, были убиты сотни китайских христиан и двое англичан. Как полагали иностранные миссионеры и местные чиновники, одной из причин, вызвавших рост общественного насилия в этом случае, стала серия лубочных картин, 32 из которых были собраны консервативным китайским ученым Чжоу Ханем ( 周汉 ) в единую иллюстрированную брошюру под названием « Цзиньцзунь шэнъюй бисе цюаньту » ( 謹遵聖諭辟邪全圖 ( In Accord with the Imperial Edict: Complete Illustrations of the Heretical Religion )), опубликованную примерно в 1890 году. Брошюра была воспроизведена лидером Лондонского миссионерского общества Гриффитом Джоном (1831–1912), который разместил фотографии в обратном порядке (32–1), добавил переводы и комментарии и опубликовал их в виде сборника « The Cause of the Riots in the Yangtse Valley: A “ Complete Picture Gallery ”» в Ханькоу в 1891 году. В настоящее время изображения, включенные в сборник, в полном объеме хранятся в архивах ГМИР. Среди них такие, как «Черти поклоняются свинье», «Проповедь христианства в церкви», «Буддисты и даосы изгоняют дьяволов» и др.
Все эти картины изображают почитателей христианства в крайне нелицеприятном виде. Для этого, в частности, используется игра слов. Так, иероглиф « 天主 » ( тяньчжу ) – господь созвучен иероглифу « 天猪 » ( тяньчжу ) – небесная свинья, поэтому Иисус на них обычно изображен в виде свиньи с иероглифом « 耶稣 » ( есу ) на боку. Иероглиф « 教 » ( цзяо ) – учение – заменяется созвучным ему « 叫 » ( цзяо ) – крик, визг, поэтому проповедников именуют « 叫司 » ( цзяосы ) – тот, кто кричит, а христианскую проповедь называют не иначе как визгом свиньи. Верующие « 叫徒 » ( цзяоту ) – тот, кто является приверженцем «визга» – в китайских и западных одеждах часто изображены сидящими в « 叫堂 » ( цзяотан ) – зале крика – парами противоположного пола в объятиях друг друга, что говорит о полном отсутствии норм морали у последователей христианского учения. На этих картинах в большом количестве присутствует зеленый цвет, традиционно считающийся в Китае символом развратного поведения. Все картины серии снабжены антихристианскими надписями, призывающими китайский народ на восстание против последователей чуждого ему учения.
БЛАГОПОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЛУБКИ
С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ ЗАПАДНЫХ РЕАЛИЙ
Как уже говорилось выше, такие картины стали особо популярны среди всех слоев китайского населения в начале XX века. Как отмечал В. М. Алексеев:
«…когда в китайском быту появились европейские новшества, народная картина сейчас же учла это» [1: 33].
Среди подобных изображений можно выделить серию лубков, изготовленных в мастерских поселка Янлюцин7 ( 杨柳青 ) с изображениями достижений западной транспортной промышленности. Например, на лубке «Картина с трамваем в Тяньцзине», хранящемся в ГМИР, на заднем плане изображена трамвайная линия, запущенная в этом городе в 1906 году, а впереди – повозка западного образца, запряженная двумя лошадьми с двумя китаянками и китайским извозчиком. На улице рядом с повозкой и в вагоне трамвая мы можем видеть как китайцев в традиционных нарядах, так и европейцев в западных одеждах. Один из прохожих в костюме европейского образца держит в руках велосипед – еще один символ вестернизации. Помимо этого, на картине изображена линия электропровода и электрические уличные фонари по обеим сторонам от вагона трамвая.
На подобных картинах часто можно видеть изображения железных дорог, железнодорожных мостов, а также зданий, построенных по западному образцу, и прочих достижений иноземной инженерии. Это такие лубки, как «Железная дорога и телега, приводимая в движение огнем» (РГО), «Новый разводной мост на Великом канале в Тяньцзине» (МАЭ РАН), «Широкая улица в Тяньцзине» (МАЭ РАН), «Вид города Тяньцзиня» (РГО), «Новый пейзаж улиц Шанхая» (ГЭ). Участники научного проекта по систематизации китайских народных картин из коллекции В. М. Алексеева, хранящихся в архивах ГМИР, подчеркивают, что появление подобных изображений можно рассматривать
«как важное историческое свидетельство и отражение гибкого характера искусства няньхуа , которое впитывало в себя и постоянно обогащалось новыми сюжетами и образами, шло в ногу с меняющимся обществом и техническим прогрессом и в силу своей необыкновенной популярности и распространенности несло информацию об этих социальных и технологических новшествах в самые широкие слои сельского населения» [8: 108].
Среди картин из данной категории особый интерес представляет серия лубков с изображениями новых общественных явлений в Китае начала XX века. В частности, речь идет о таких картинах, как «Женское училище гражданских и военных наук» (ГМИР). На картине изображены три девушки в шляпах западного образца, сидящие над тетрадями в здании женского военного училища, а также три девушки во дворе училища, обучающиеся обращению с винтовками. Данное изображение, как и ряд других, подобных ему, было выполнено в Шанхае 1900–1920-х годов. Эта серия примечательна в том числе потому, что
«отражает смену статуса женщины в китайском обществе и открывшиеся для нее возможности получения образования за пределами квартала проживания» [8: 107].
ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
Как заметил известный эксперт по истории китайской живописи Ван Шуцунь в своем описании сюжетов няньхуа конца XIX – начала XX века,
«в отличие от высокой живописи, целиком замкнувшейся в сфере одних и тех же традиционных тем, китайская народная картина этого времени широко отражала реальную действительность» [2: 28].
Неудивительно, что одной из наиболее популярных новых тем для китайской народной картины этого периода стала борьба с иностранными захватчиками. В первую очередь речь шла о японской агрессии в отношении Китая, а также об участии западных держав в подавлении восстания ихэтуаней в Китае. Отличает эти картины в первую очередь то, что исторические события и легенды на них зачастую изображались в виде сцен из театрального представления. Академик В. М. Алексеев объяснял это тем, что
«китайцы не могут себе иначе представить историческое действие, как только в виде действия театрального, и это понятно, так как именно театр знакомит неграмотных с историей и литературой» [1: 35].
Изображенные на таких картинах «исторические» сюжеты часто противоречили реальности.
Это могло быть связано как с малой осведомленностью авторов изображений, так и с умышленным желанием «приукрасить» те или иные события. Ярким примером может служить серия лубочных картин «Бьем японцев из пушек» (МАЭ РАН), на которых достижения китайских военных в борьбе с японцами в ходе китайско-японской войны 1894–1895 годов явно преувеличены, или же картина «Пушки в Пекине бьют по Сишику» (ГЭ), восхваляющая достижения поддерживаемого обладающими магическими способностями девушками – членами одного из тайных обществ генерала Дун Фусяна (1839–1908) в борьбе с западными «агрессорами».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обращаясь к китайским народным лубочным картинам, нельзя не согласиться с мнением Т. И. Виноградовой о том, что няньхуа – это «ксилографические гравюры, созданные исключительно для обслуживания нужд основной нации, населяющей империю, т. е. ханьцев, китайцев» [3: 32]. Тем не менее стоит помнить, что среди огромной массы представителей китайской нации встречались группы «потребителей» народных картин с порой совершенно противоположными запросами – от борцов с христианством до поклонников любых новых западных тенденций. Так или иначе, очевидно, что беспрецедентное расширение контактов Китая с внешним миром, начавшееся во второй половине XIX века, затронуло практически все сферы жизни китайского общества и государства, что нашло очень яркое отражение в самом народном из всех видов изобразительного искусства в Китае – искусстве няньхуа .
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-21-49001-ОГН «Образ России и Запада в Китае в XX веке: эволюция, преемственность и фактор случайности».
Список литературы Образы иностранцев в традиционном китайском лубке конца XIX - начала XX века
- Алексеев В. Наука, 1966. 260 с
- Ван Шуцунь. К истории китайской народной картины // Редкие китайские народные картины из советских собраний. Л.: Аврора, 1991. С. 21-37.
- Виноградова Т. И. «Некитайские» китайские народные картины // Кюнеровский сборник: Материалы Восточноазиатских и Юго-Восточноазиатских исследований. СПб.: МАЭ РАН, 2013. Вып. 7: Этнография, фольклор, искусство, история, археология, музееведение, 2011-2012. С. 32-38.
- Муриан И. Ф. Китайский народный лубок. М.: Искусство, 1960. 122 с.
- Рифтин Б. Л. Редкие китайские лубки из фондов РГБ // Восточная коллекция. Весна 2002. М., 2002. С. 105-119.
- Рудова М. Л. Китайская народная картинка. СПб.: Аврора, 2003. 63 с.
- Следзевский И. В. Ментальный образы в международных сопоставлениях и моделировании глобального будущего // Общественные науки и современность. 2008. № 4. С. 69-85.
- Терюкова Е. А., Завидовская Е. А., Хижняк О. С., Кормановская М. В., Мазурина В. Н. Китайская народная картина из собрания ГМИР: опыт систематизации // Труды Государственного музея истории религии. Вып. 17. СПб., 2017. С. 85-114.
- Flath James A. The Cult of Happiness: Nianhua, Art, and History in Rural North China (Contemporary Chinese Studies). Toronto: UBS Press, 2004. 188 p.
- He Yuming. The Book and the Barbarian in Ming China and Beyond: The Luo chong lu, or "Record of Naked Creatures" // Asia Major. THIRD SERIES. Vol. 24. No 1. Taipei, 2011. P 43-85.
- Lust J. Chinese popular prints. Leiden: BRILL, 1996. 352 с.
- Po Ronald C. Maritime countries in the Far West: Western Europe in Xie Qinggao's Records of the Sea (c. 1783-1793) // European Review of History: Revue europeenne d'histoire. Vol. 21. 2014. Issue 6. London: Taylor and Francis, 2014. P 857-870.
- Samoylov N. A. The Evolution of Russia's Image in China in the early 20th century: Key Factors and Research Methodology // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. 2019. Т. 11. № 1. С. 28-39.
- Лу Илу. «Лочунлу» - распространение при династии Мин и связи с «Июй чжи» // Говэнь сюэбао. № 58 от 12.2015. Тайбэй, 2015. С. 129-166
- Фэн Цзицай. Китайские ксилографические картины из Российских собраний. Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 2009. 548 с