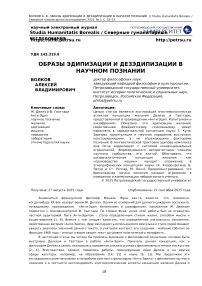Образы эдипизации и дезэдипизации в научном познании
Автор: Волков А.В.
Журнал: Studia Humanitatis Borealis @studhbor
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (35), 2025 года.
Бесплатный доступ
Целью статью является экспликация эпистемологических аспектов концепции желания Делеза и Гваттари, представленной в произведении «Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения». Показано, что эдипизации желания, свойственная фрейдистскому психоанализу, имеет параллель в парадигмальной концепции науки Т. Куна. Эдипова триангуляция и научная парадигма выступают конструирующими, а не отражающими факторами познания. В лингвистической трактовке эдипова комплекса имя Отца коррелирует с системой конвенциональных ограничений, формирующихся авторитетными членами научного сообщества, его элитой. Обосновано, что шизоаналитическая концепция желания как «производство машин» находит отражение в этнографических концепциях науки (К. Кнорр-Цетина, Б. Латур и Ст. Уолгар, М. Линч). Продемонстрировано, что бриколажная логика желания находит отражение в поведении и коммуникации лабораторного ученого.
Ж. Делез и Ф. Гваттари, Анти-Эдип, научное познание, желание, эдипизация, машина, парадигма, лаборатория, этнометодология науки
Короткий адрес: https://sciup.org/147251768
IDR: 147251768 | УДК: 141.319.8 | DOI: 10.15393/j12.art.2025.4242
Текст научной статьи Образы эдипизации и дезэдипизации в научном познании
иhсtсtpлsе:д//
Целью статью является экспликация эпистемологических аспектов концепции желания Делеза и Гваттари, представленной в произведении «Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения». Показано, что эдипизации желания, свойственная фрейдистскому психоанализу, имеет параллель в парадигмальной концепции науки Т. Куна. Эдипова триангуляция и научная парадигма выступают конструирующими, а не отражающими факторами познания. В лингвистической трактовке эдипова комплекса имя Отца коррелирует с системой конвенциональных ограничений, формирующихся авторитетными членами научного сообщества, его элитой. Обосновано, что шизоаналитическая концепция желания как «производство машин» находит отражение в этнографических концепциях науки (К. Кнорр-Цетина, Б. Латур и Ст. Уолгар, М. Линч). Продемонстрировано, что бриколажная логика желания находит отражение в поведении и коммуникации лабораторного ученого.
Получена: 27 августа 2025 года Опубликована: 27 сентября 2025 года
Знаменитый французский философ Мишель Фуко как-то заметил, что, возможно, когда-нибудь XX век назовут веком Ж. Делеза. Одним из оснований для данного суждения послужило, по-видимому, произведение « «Анти-Эдип: кКапитализм ии и.шизофрения», ннаписанное ЯЖ. ЛДелезом совместно с психоаналитиком Ф. Гваттари. По словам Фуко, успех этой работы был не ограничен частной аудиторией: быть Анти-Эдипом – стало определенным стилем жизни, способом мысли и существования [1: 8]. Вместе с тем следует заметить, что определенная эпатажность изложения, свойственная авторам «Анти-Эдипа», фрагментарность используемого ими языка и стиля порой мешают увидеть диапазон значений данного текста, а учитывая контекст его создания – майские события во Франции 1968 года – иногда и вовсе сводят текст до уровня политического манифеста.
В настоящей статье мы хотели бы привлечь внимание к философской концепции, которая была выстроена Делезом и Гваттари в работе «Анти-Эдип». Поначалу данная концепция, как и философия Делеза в целом, оказывалась предметом анализа в связи с феноменами эстетики и искусства [2; 4]. Впоследствии, однако, появились работы, проецирующие идеи Делеза и на другие сферы культуры, например, на образование [14; 15] и науку [6; 13]. Мы продолжим эти исследовательские начинания и попробуем соотнести философию «Анти-Эдипа» с феноменом научного познания и в частности эксплицировать эпистемологические аспекты концепции желания Делеза и
Гваттари.
Итак, коль скоро в центре философии «Анти-Эдипа» стоит понятие желания, то было бы резонно сначала прояснить смысл данного понятия, а затем перейти к его эпистемологическим аспектам.
Свое представление о желании Делез и Гваттари формируют в полемике с З. Фрейдом. Связывая желание с сексуальными потребностями индивида, фрейдисты рассматривают его прежде всего в рамках семьи. То, с чем имеет дело желание, – это лица (мать, отец, ребенок), а также их субстанции (молоко, экскременты и т. п.) и органы (грудь, пенис). При этом желание трактуется с точки зрения нехватки и приобретения. Например, как энергия, направленная на восполнение изначально существующей, но утраченной целостности – единства с матерью. Или как зависть к пенису, желание его иметь (у девочек), как инцестуозные влечения и страх кастрации (у обоих полов). Как в первом, так и во втором случае фаллос символизирует некое трансцендентное единство.
Разъясняя свою позицию, Делез и Гваттари соглашаются с тем, что З. Фрейд открыл мир желания, однако обращают внимание на то, что австрийский психоаналитик всегда испытывал трудности в том, чтобы свести воедино Эдипа (инцестуозные влечения) и детскую сексуальность, поскольку последняя отсылала к биологической реальности развития, а Эдип – к психической реальности фантазма. В итоге эдипова триангуляция, говорят Делез и Гваттари, была не столько открыта в анализе психики, сколько заимствована из арсенала классической культуры (греческого театра) и наброшена на мир желания, после чего он и стал классическим порядком греческого театра [1: 89–90].
Таким образом, то, что в первую очередь интересует Делеза и Гваттари – это эдипизация желания и, пожалуй, именно этот пункт может послужить для нас отправной точкой для экспликации первых эпистемологических смыслов концепции французских авторов. В свое время Т. Кун заметил, что в период экстраординарных, революционных исследований наука становится похожей на другие сферы духовной деятельности человека – философию, астрологию и в том числе психоанализ [3: 339]. Полагаем, что смысл данной аналогии не только в указании на то, что выбор между парадигмами не решается исключительно на основе эмпирических соображений и рационально-логичеких аргументов, ибо в игру вступают эмоционально-волевые, социально-психологические факторы. На наш взгляд, сходство между ученым-естествоиспытателем и психоаналитиком имеет отношение и к тому, что Делез и Гваттари называют «эдипизацией желания». Взглянем на пример из психоаналитической практики. М. Клайн пишет: <«Когда Дик первый раз пришел ко мне, он не продемонстрировал никакого волнения, когда нянька мне его передавала. Когда я показала ему заранее приготовленные мной игрушки, он взглянул на них без малейшего интереса. Я взяла большой паровозик и поставила его с меньшим по размеру. Их я обозначила как „паровозик-папа“ и „паровозик-Дик“. Он поднял паровозик, который я назвала Диком, дотянул его до окна и сказал: „Вокзал“. Я объяснила ему, что „вокзал – это мама; Дик входит в маму“. Он бросил паровозик, принялся бегать между внешней и внутренней дверями комнаты, закрылся, сказал „темно“ и тотчас выбежал обратно. Так он сделал несколько раз. Я объяснила ему, что „темно в маме; Дику темно в маме“... После того как анализ продвинулся вперед... Дик тоже понял, что умывальник символизирует материнское тело, он чрезвычайно боялся замочиться водой» [1: 76].
Суть данной иллюстрации, если к ней подходить с позиции Делеза и Гваттари, в том, что желание и его продукты рассматриваются психоаналитиком (М. Клайн) с точки зрения выражения некоего пред-данного кода (инцестуозные устремления и страх кастрации) – эдипова треугольника. Что же касается ученого-естествоиспытателя, то и он подходит к объекту своего познавательного интереса, руководствуясь неким кодом и, в частности, парадигмой. Последняя, как показал Кун, программирует ожидания исследователя, позволяет ему упорядочить и интерпретировать эмпирические данные. При этом, как пишет Кун, ученый порой пытается втиснуть в парадигму природу, как в заранее сколоченную коробку [3: 49]. И здесь было бы уместно обратить внимание на следующий момент. Если с точки зрения Фрейда желание изначально имеет дело с целостными лицами (мама–папа–я) и направлено на них, а семья лишь извне накладывает запрет на этот эдипов характер желания, то, по мнению Делеза и Гваттари, дифференциация целостных лиц (а равно и сам эдипов характер желания) не существуют до семейного запрета, а устанавливаются самим этим запретом [1: 115]. В этом смысле и парадигма, подобно семейной триангуляции, является не столько ареной для проявления изначально данных внутриприродных различий, сколько фактором их конституирующим. Данное обстоятельство не раз становилось предметом внимания среди отечественных философов, особенно в связи с анализом тезиса о несоизмеримости научных парадигм и теоретической нагруженности фактов
[5; 8].
Далее, еще одним выходом на образ познания как эдипизации может послужить лингвистическая трактовка самого эдипова комплекса. Есть смысл вспомнить данную трактовку, восходящую еще к Ж. Лакану, значительно повлиявшему на идеи Делеза и Гваттари. Ребенку, желающему занять место отца, необходимо овладеть средством, с помощью которого отец взаимодействует с матерью – языком. В этом смысле ребенок зачарован «именем» отца, он для него источник всего богатства означающих. Но, овладевая языком, ребенок в тоже время осваивает все те лингвистические ресурсы (слова, выражения), которые несут смысл запретов, призывов, команд и угроз, которые регулируют его внутрисемейные отношения, в том числе с матерью. В итоге, научившись говорить (т. е., казалось бы, заняв место отца), ребенок обнаруживает, что он вовсе не наедине с матерью, ибо всем его желаниям и помыслам, которые могут быть выражены в языке, противостоит все та же воля отца, которая тоже артикулирована в языке в качестве предписаний, табу и т. д. [7: 75–76].
Отправляясь от этой лингвистической трактовки, в соответствии с которой Эдип есть язык, можно сказать, что Эдип в его символической форме префигурирует и научно-познавательный процесс. Аналог языковой функции Отца воплощен в данном случае в системе условных, конвенциональных ограничений, которые усваивает начинающий исследователь, входящий в научное сообщество. Сами же конвенции, как замечают исследователи, формируются и заключаются авторитетными членами научного сообщества, его элитой [9: 205]. Таким образом, овладевая научным языком, молодой ученый оказывается в глубокой зависимости от «означающих», которые принадлежат не ему, а речи Другого.
До сих пор мы вели речь об аналогиях между эдипизацией желания во фрейдистском психоанализе и некоторых особенностях научно-познавательной деятельности. Надо, однако, заметить, что, ставя целью выработать собственную концепцию желания, Делез и Гваттари идут по пути дезэдипизации желания и предлагают следующую ее трактовку: «Желание есть совокупность пассивных синтезов, которые прорабатывают частичные объекты, потоки и тела...» [1: 49]. Обратим внимание, что если психоанализ называл нечто «частичным объектом» в том смысле, что это нечто есть часть, отсылающая к целому – персоне матери, отца, или их органам – пенису, груди, то с точки зрения шизоанализа нечто выступает «частичным объектом» в смысле детали для соединения-сборки, для производства «машины». Использование термина «машина» оправдано тем, что желание, будучи укорененным в нейробиологических структурах, не знает ничего о существовании каких-либо дифференцированных лиц, 1таких, hнапример, как отец, мать, 5я. Не имея J личностного>характера Lи не связанное с CсексуальнымиПпотребностямиИиндивида, 0 оно скорее являет1 присущую3(всемукживому анонимную созидающую силу, творческую энергию.
По мнению Делеза и Гваттари описанное ими машиноподобное желание, заявляет о себе уже на самых ранних этапах развития человека, буквально с детства. Ссылаясь на М. Клайн, французские философы говорят, что мир для младенца (как и он сам себе), дан не в качестве интегрированной целостности, а фрагментированной множественности. С самого рождения колыбель, грудь, соски, экскременты – это частичные объекты – детали, а само желание есть активность по сборке из этих деталей различных сцеплений, или «машин». При этом важно обратить внимание на Пприроду синтезов желания. Сами синтезы, подчеркивают авторы Анти-Эдипа, носят свободный характер, являя код бриколажа [1: 21]. Для последнего характерно комбинирование разнородных фрагментов и способность включения фрагментов во все новые фрагментарные образования.
По мнению французских философов, производительная сила желания манифестирует себя в художнике, поэте, провидце. Несмотря на то, что в этом ряду нет ученого, попробуем, однако, взглянуть на концепцию желания как производства с эпистемологической стороны. Как это ни странно, но и в научном познании, если взглянуть на него сквозь призму этнометодологии науки, просматриваются черты той логики бриколажа, о которой говорят авторы «Анти-Эдипа». В самом деле, как пишет, например, К. Кнорр-Цетина, работа лабораторного исследователя напоминает действия лудильщика [10: 33–35]. Последний, в отличие от инженера, имеет дело с некими обрывками, обрезками – тем, что оказывается под рукой для производства некой работающей вещи. Так, например, замыслы и проекты в лаборатории часто приобретают соответствующую направленность просто потому, что, как объясняют исследователи, часть используемого ими оборудования осталась от прошлого проекта. А само оборудование, предназначенное для одних целей, может после некоторого преобразования быть использовано и для других целей. В этом смысле, говорим ли мы об играющем ребенке, который, например, «использует свою ногу как весло» (Ж. Делез и Ф. Гваттари) или читаем об исследователе, который «приспособил измеритель давления для определения газоабсорбционной способности вещества» (К. Кнорр-Цетина), в обоих примерах мы сталкиваемся со свободными – ситуативно случайными и контекстуально изменчивыми синтезами желания.
Еще одним свидетельством бриколажной логики желания могут послужить ккоммуникативные практики лабораторных исследователей. Как показали Б. Латур и Ст. Уолгар, в научной лаборатории любое высказывание вводит в игру множество интересов, и в процессе разговора происходят внезапные переключения участников от одного интереса к другому [11: 154–168]. Так, реагируя на сообщение своих коллег об установленном ими новом факте, ученые обсуждают:
– профессиональные стандарты коллег;
– их репутацию и личностные качества;
– допустимые временные затраты, которые они могут себе позволить для подтверждения нового факта;
– собственные ресурсные возможности (необходимое количество требуемого для эксперимента материала);
– риск для собственной профессиональной репутации в случае поддержки сообщения своих коллег и его последующего опровержения другими научными группами.
Еще более гетерогенными научные коммуникации представляется исследователю М. Линчу. Последний отмечает сколь безуспешными были его попытки отграничить разговоры лабораторных ученых на формализованном, терминологическом языке от их коммуникаций на обыденном, естественном языке. В процессе работы ученые быстро переходят от обсуждения тем, связанных с продумыванием и осуществлением экспериментальных процедур, к разговорам о бейсболе, кинофильмах, религии [12: 1 159]. Научные LиЕвненаучные 1темы hне Lисключают ^друг ^друга, а, Гговоря словами Делеза, существуют как «два конца палки в неразложимом пространстве». Более того, работа и игра, серьезность и шутка оказываются элементами включающей дизъюнкции не только на уровне высказываний, но и действий. Линч вспоминает, как в одном из экспериментов ученые наблюдали за вычерчиваемой прибором кривой, отражающей корреляцию между поведением нейронов и воздействием на них химических веществ. По ряду причин ход эксперимента не удовлетворял исследователей. И тогда один из участников вручную подправил кривую до нужного результата. Это вызвало смех остальных сотрудников. Впоследствии директор лаборатории вычеркнул этот шуточный результат из показаний прибора [12: 176–177].
Подведем итоги. Выше нами были представлены некоторые, на наш взгляд, ключевые эпистемологические аспекты концепции желания французских философов. Как мы постарались показать, задействованные в этой концепции образы эдипизации и дезэдипизации желания, имеют определенные параллели в парадигмальной концепции Т. Куна и этнометодологических исследованиях науки. Если, как замечают Делез и Гваттари, под желанием понимать не символическое выражение вытесненных сексуальных потребностей, а конструктивную активность, синтезы, а продукты желания понимать не как фантазмы, а машины, то главным вопросом желающего производства оказывается не «что это означает?», а «как это работает?». Так, ребенок, по мысли французских авторов, с самого юного возраста живет желающей жизнью, в которой органы тела и окружающие предметы используются им как возможности для установления различных сцеплений (машин), например: рот и поток молока, но также – Pрот/и1поток3воздуха,2рот/I и3звуковойяпоток. Этонжелающееяпроизводство2есть первая среда экспериментации, в которой перед ребенком возникает множество функциональных вопросов: «нужно или не нужно задыхаться от того, что ешь, глотать воздух?» Или: «что составляет часть семьи? Мать и отец? А, например, велосипед?» Что касается лабораторной жизни, то это тоже среда экспериментации и, как отмечают этнометодологи, принцип, управляющий ддействиями ученых в лаборатории – это принцип успеха, это озабоченность исследователей как действовать так, чтобы вещи работали. При этом, как мы видели, эпистемологическая, J лабораторная машина ссовсем нне Lчужда бриколажной логики желания.