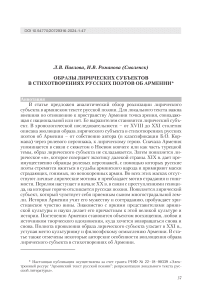Образы лирических субъектов в стихотворениях русских поэтов об Армении
Автор: Павлова Л.В., Романова И.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье предложен аналитический обзор реализации лирического субъекта в армянском тексте русской поэзии. Для локального текста важна внешняя по отношению к пространству Армении точка зрения, совпадающая с национальной или нет. Ее выразителем становится лирический субъект. В хронологической последовательности - от XVIII до XXI столетия описана эволюция образа лирического субъекта в стихотворениях русских поэтов об Армении - от собственно автора (в классификации Б.О. Кормана) через ролевого персонажа, к лирическому герою. Сначала Армения упоминается в связи с сюжетом о Ноевом ковчеге или как часть турецкой темы, образ лирического субъекта не складывается. Затем появляется лирическое «я», которое созерцает экзотику далекой страны. XIX в. дает преимущественно образцы ролевых персонажей, с помощью которых русские поэты стремятся вжиться в судьбы армянского народа и примиряют маски страдающих, гонимых, но непокоренных армян. Во всех этих масках отсутствуют личные лирические мотивы и преобладает мотив страдания и гонимости. Перелом наступает в начале ХХ в. в связи с преступлениями геноцида, на которые горячо откликается русская поэзия. Появляется лирический субъект, который чувствует себя приемным сыном многострадальной земли. История Армении учит его мужеству и состраданию, пробуждает христианское чувство вины. Знакомство с яркими представителями армянской культуры и науки делает его причастным к этой великой культуре и истории. Постепенно Армения становится объектом восхищения, любви и источником творческого вдохновения, куда хочется возвращаться снова и снова. Полнота проявления образа лирического субъекта угасает в XXI в., уступая место культурному и философскому осмыслению Армении. В статье также отмечены некоторые авторские особенности воплощения образа лирического субъекта в стихотворениях об Армении.
Локальный текст, армянский текст русской поэзии, лирический субъект, мотив
Короткий адрес: https://sciup.org/149145263
IDR: 149145263 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-47
Текст научной статьи Образы лирических субъектов в стихотворениях русских поэтов об Армении
Первая проблема, которая встает перед исследователями армянского текста – необходимость собрать репрезентативный корпус стихотворений русских авторов об Армении. Такой корпус составлен на основе самой обширной на сегодняшний день антологии русских стихотворений об Армении М.Д. Амирханяна «Армения в зеркале русской поэзии» [Амирханян 2022], существенно дополнен в ходе реализации проекта и сейчас насчитывает свыше 600 стихотворений поэтов XIX–XXI вв. Этот корпус и послужил материалом исследования.
Следующая и главная проблема – установить, представляют ли эти стихотворения в совокупности феномен локального армянского текста русской поэзии.
Впервые проблема локального текста была поставлена Н.П. Анциферовым [Анциферов 1924], В.Н. Топоровым [Топоров 1984] и Ю.М. Лотманом [1984] в отношении «петербургского текста». Далее модель рассмотрения локального текста распространилась на городские тексты – московский [Москва и «московский текст» русской культуры 1998], лондонский [Прохорова 2005], пермский [Абашев 2008], вологодский [Вологодский текст 2009], киевский [Булкина 2010], венецианский [Кунусова 2011], ивановский [Голубев 2014] и др., целые регионы – например, Сибирь [Тюпа 2002], Крым [Люсый 2003; Курьянов 2014], Туркестан [Шафранская 2016].
Под локальным текстом мы понимаем систему текстов, которые интегрированы в единое целое посредством общеразделяемой внетекстовой ориентации; в нашем случае объединяющим фактором стала Армения. Вместе с тем в локальном тексте одинаково важны как объективные составляющие, отражающие топонимику, особенности ландшафта, историю места, так и субъективные – тот собирательный художественный образ места, который формируется из образов локации у каждого автора.
Э.Ф. Шафранская замечает, что есть локальные тексты, «сконструированные в культуре посредством тиражирования одних и тех же паттернов в фольклорно-мифологической действительности, а далее – в литературе; есть локальные тексты, рожденные исключительно литературными текстами» [Шафранская 2022, 135]. К последним она относит и армянский текст. Исследовательница ссылается на тех прозаиков, пишущих об Армении, кто признавался, что эта страна для них существует прежде всего как факт литературный. Подробно останавливается на спорах относительно того, кто является первооткрывателем Армении для русского читателя, – В. Брюсов, редактор знаменитой антологии «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», вышедшей в 1916 г., или О. Мандельштам – автор одного из самых ярких поэтических циклов, посвященных Армении, и прозы о ней, написанных соответственно в 1930 г. и 1931–1932 гг.
В локальном тексте объектом является сам топос и система локусов. С топосами могут быть неразрывно связаны представления о тех или иных людях или событиях, составляющих семантический ореол места. Изучение армянского текста в нашем проекте идет, в первую очередь, по самым частотным именам собственным, соотносимым в массовом сознании с Арменией – гора Арарат, озеро Севан, создатель армянского алфавита Месроп Маштоц, поэт Аветик Исаакян, художник Мартирос Сарьян и т.д. Однако просто частоты упоминания той или иной реалии недостаточно. Необходимо повторение у разных авторов общего контекста, образно-мотивного комплекса. Например, в связи с Араратом это упоминание Ноева ковчега, что имеет не национальное, а общехристианское и общекультурное значение, а также более узкого мотива трагической утраты Арменией и христианским миром Арарата [Павлова, Романова 2020; Шафранская 2022].
Наряду с объектом в картине мира локального текста важен и субъект, который обеспечивает точку зрения, знание и восприятие места. В лирике субъект важен вдвойне как ведущая родовая особенность. В армянском тексте русской поэзии чрезвычайно значимо, что это восприятие Армении русским поэтом, которое может совпадать или не совпадать с собственно национальным. Эта внешняя точка зрения выдвигает на передний план не только объект описания, но и самого лирического субъекта. Как он проявляется, какое отношение к Армении и армянскому выражает – это тема целого направления исследований, часть которого и будет представлена в статье.
Стихотворения XVIII в. В. Петрова и В. Рубана, упоминающие армян, написаны в жанре оды и не содержат признаков лирического субъекта. Они восхваляют политику Екатерины II и деятельность князя Г.А. Потёмкина по осуществлению добровольного переселения армян и других национальных меньшинств из Крыма в южные российские земли.
Стихотворения первой трети XIX в. обыгрывают две главные темы – ветхозаветная история, всемирный потоп и победы русского оружия в войне с турками, освобождение угнетенных народов, в связи с чем упоминаются армянские топонимы. В форме сонета или в жанрах послания русские поэты второго ряда (например, Д. Хвостов, Н. Бутырский) мысленно уже перемещаются на территорию Армении, но пока не обнаруживают ее знания и понимания, она остается экзотической землей. Армения не представляет для русских авторов самостоятельный интерес, она – часть турецкой темы. Лирический субъект не проявляется, кроме как в форме кормановского собственно автора, обнаруживающего себя по общему восторженному пафосу и риторическим вопросам. До тех пор, пока тема не становится лирической, «не рождается» и лирический субъект.
Первым создает образ лирического субъекта на фоне армянских восточных идиллических пейзажей Д. Давыдов. Стихотворение «Полусолдат» состоит из двух композиционных частей. Первая, большая, представляет собой монолог героя, «нашего наездника», спорящего с однополчанами о том, кто такой «полусолдат». Вторая, меньшая, живописует «ночную роскошь полуденного края»: «шум Аракса, сон горных вершин Алагеза, луна над Араратом, аромат и пурпур садов, влага долин…» [Амирханян 2022, 121].
Монолог героя-наездника оформлен в кавычки, что позволяет предположить, что автор репрезентует ролевого персонажа, хотя и своего тезку, наделенного к тому же автобиографическими чертами. Монолог распадается на две части: в одной герой вспоминает о своей былой удали, постоянных солдатских пирушках и безудержном веселье после боя, острословии и балагурстве. Этот «век златой» в прошлом. Бесстрашие в бою осталось, но в часы отдыха он теперь предпочитает уединение и тоскует о далекой родине и семье. Чувствуя эту перемену в душе, он и называет себя «полусолдатом». Примечательно, что о себе прошлом он говорит в третьем лице, называет Денисом как бы от имени других солдат. О себе сегодняшнем, сохраняющем черты романтического героя, говорится от первого лица.
В данном примере очевидны черты романтизма: описание экзотической страны; антитеза прошлого и настоящего; прекрасного, но чужого Кавказа и далекой и родной «святой Руси»; бесстрашный герой-воин одинок, ищет уединения, тоскует.
XIX в. также дает примеры ролевых персонажей в стихах об Армении. Например, «Арарат» Я. Полонского написан от лица персонифицированной библейской горы. Это стихотворение – отклик на восхождение на Арарат, которое впервые в истории было осуществлено в 1829 г. профессором Ф. Парротом в научных целях и горячо обсуждалось общественностью. Монолог Арарата тоже распадается на две части: в прошлом это священная, царственная гора, «гигант», давший приют праведнику Ною («венец мой пламенел», «лик мой набожный», «высота священная»). В настоящем человек, «потомок праведного Ноя», совершил святотатство: поставил науку выше веры, его гордостью попрана святыня. «Я без венца отныне. / Сказал – и рухнул Арарат…» [Амирханян 2022, 126]. «Разноплеменная толпа», упомянутая в конце стихотворения, испуганно молчит и суеверно ждет проклятья. Противостояние Арарата с человеком, завершившееся попранием человеком святыни, воспринимается как эсхатологическое пророчество.
Стихотворение Я. Полонского «Саят-Нова» написано от лица этого армянского поэта и ашуга. В центре – тема забвения поэта после его смерти. Оно строится на антитезах: 1) «свет забудет песни – ты вспомнишь»:
Если погибну я, знаю, что свет не заметит утраты;
Ты только вспомнишь те песни, под звуки которых цвела ты [Амирханян 2022, 129];
-
2) «я и ты»: Тут образ певца любви вписывается в типичный для восточной поэзии образ меджнуна, безумного от любви и страдающего, противопоставленного жизнелюбивой возлюбленной:
Я просветил твое сердце – а ты, ты мой ум помрачила; Я улыбаться учил – а ты плакать меня научила [Амирханян 2022, 129];
-
3) «чужбина – и твой сад»:
<…> где будет холодный
Прах мой покоиться? там ли – в далеких пределах чужбины, Здесь ли, в саду у тебя, близ тебя, под навесом раины?.. [Амирханян 2022, 130].
Примеры ролевых персонажей можно множить. Неизвестный поэт, скрывшийся под инициалами «С.Т.», в 1898 г. пишет «Песню армянского переселенца», в которой перечисляет многочисленные испытания, которые пришлось пережить гонимым армянам. В целом они вписываются вечный мотив изгнанничества, потери родины: «Прощай родимая страна: / Тебя мне не увидеть боле <…>» [Амирханян 2022, 160]. А. Кулебя-кин, русский офицер, воевавший в Закавказье, для «Колыбельной песни» 1915 г. выбирает в качестве ролевого персонажа армянскую женщину. Она укачивает ребенка, пугается любых стуков и ждет мужа, ушедшего воевать с турками. В. Немирович-Данченко создает ролевые стихотворения от лица то армянского воина-знаменосца, то зверски растерзанной мирной армянской девушки, то эмигранта. Ю. Веселовский обращается к средневековой истории Армении и пишет стихотворение от лица царя Левона VI, который томится в плену. Е. Алексеева о судьбе горестной родины пишет от лица ашуга.
Наряду с ролевыми стихотворениями в это время создаются тексты балладного типа, а также драматические сцены в стихах с диалогами героев времен великого прошлого или войны с турками.
Если русская поэзия XVIII – начала XIX вв. видела больше не саму Армению, а армян, причем часто живущих не на своей земле, то со второй трети XIX в. русские поэты не понаслышке узнают Армению. Как правило, это познание связано с исполнением служебного долга, гражданского или военного, в Закавказье, в Тифлисе, где было много армян. Они проникаются судьбой армянского народа, но освоение этой темы остается декоративным, о чем свидетельствует сохранившееся тяготение к ролевой лирике, в которой они примеряют маски восточного поэта, гонимого армянина, армянской матери, поверженного Арарата. Во всех этих масках отсутствуют личные лирические мотивы и преобладает мотив страдания и гонимости.
Другой распространенной формой выражения лирического субъекта становится собственно автор (в терминологии Б. Кормана) – максимально скрытый субъект, который проявляет себя в общем пафосе гнева на гонителей и разорителей армян, в протесте против разрушения памятников великой духовной и материальной культуры, в сочувствии страдающему народу («Но Господи! Господи! что за разгром! / Какое ужасное горе!» (А. Кулебякин) [Амирханян 2022, 168]). Может появиться эпизодическое «я» очевидца. Вот герой стихотворения Кулебякина «Варагский монастырь» находит в разоренном храме икону Божьей Матери (все подчеркивания сделаны нами, если не указано иное – И.П., Л.П. ):
Я смотрел в Вагарском храме На ограбленный престол И в сожженном, грязном хламе Образ сорванный нашел .
-
<…> И теперь в забытом соре Я нашел Твой лик святой <…>
-
<…> Ты с улыбкою усталой
Грустно смотришь на меня [Амирханян 2022, 191–192].
Появляется подлинное знание культуры, истории, живое сострадание, но по-прежнему отсутствует личная история, вызывающая к жизни полноценный образ лирического героя.
Перелом наступает в 1915 г. в связи с трагическими событиями в Армении, преступлениями геноцида. Русская поэзия откликнулась на них всем сердцем. Начинается активное изучение Армении, ее культуры, знакомство с армянскими деятелями искусства. Русские поэты переводят армянских авторов, как В. Брюсов, ездят в очаги военных действий, спасают армянских детей, как С. Городецкий. Завязываются личные связи с армянами.
Погружение В. Брюсова в армянскую историю и культуру приводит к появлению в его творчестве «я», неотделимого от «мы» – русские люди, для которых настоящим открытием и духовным уроком стала Армения. Стихотворения строятся на противопоставлении «мы – вы», но это противопоставление стремится к объединению:
И ныне, в этом мире новом, В толпе мятущихся племен, Вы встали обликом суровым Для нас таинственных времен.
Но то, что было, вечно живо. В былом – награда и урок, Носить вы вправе горделиво Свой многовековый венок.
А мы, великому наследью
Дивясь, обеты слышим в нем... [Амирханян 2022, 278–279].
«Я» в стихотворениях Брюсова об Армении ощущает себя частью целого, некой общности: современники, русские освободители, потомки… «Я» становится эпично, оно способно разговаривать с Араратом, с Хоносом:
Благодарю, священный Хронос!
Ты двинул дней бесцветных ряд –
И предо мной свой белый конус
Ты высишь, старый Арарат <…> [Амирханян 2022, 279].
Подлинный лиризм в противовес господствующей публицистичности в поэтическом решении армянской темы появляется у С. Городецкого. В символистском ключе предстает лирическое «я» поэта, описывающего свою любовь к Армении как к прекрасной женщине. В стихах Городецкого Армения персонифицируется и предстает в чувственных образах:
Как перед женщиной, неведомой и новой, В счастливом трепете стою перед тобой. И первое сорваться с уст боится слово, И первою смущаются глаза мольбой.
Я голову пред древностью твоей склоняю, Я красоту твою целую в алые уста.
Как странно мне, что я тебя еще не знаю, Страна-кремень, страна-алмаз, страна-мечта! [Амирханян 2022, 295].
Сквозным у Городецкого в его «армянском» цикле становится мотив мистической встречи лирического субъекта с душами погибших: «Рыданья сердца заглушая, / Хожу я с ними, между ними» [Амирханян 2022, 299]. Наиболее пронзительно мотив невозвратимых человеческих потерь звучит на фоне образа прекрасного сада, повторяющегося у поэта неоднократно. Возникает единый образно-мотивный ряд «сад (жизнь) – смерть – память»: «Сад весенний, сад цветущий, / Страшно мне / Под твои спускаться кущи В тишине. / Здесь любили, целовались, / Их уж нет» [Амирханян 2022, 299]; «И вижу руки давно убитой, / В саду зарытой, давно забытой. / Сияют руки в цветенье белом, / Зовут в объятья движеньем смелым. / Я к ним бросаюсь, их воле внемлю, / Они, сияя, уходят в землю» [Амирханян 2022, 301].
И у Брюсова, и у Городецкого возникает мотив прозрения лирического субъекта относительно смысла жизни, и это прозрение дарит Армения: В. Брюсов «К Армении»:
Армения! Твой древний голос – Как свежий ветер в летний зной: Как бодро он взвивает волос, И, как дождем омытый колос, Я выпрямляюсь под грозой! [Амирханян 2022, 277].
С. Городецкий «Ввысь»:
Захотел я собой овладеть
И ступить на земные пределы Иль в бою за себя умереть, Как боец бескорыстный и смелый [Амирханян 2022, 305].
Наконец, в поэзии – у авторов и первого, и второго ряда – появляется лирическое «я». Лирический субъект идентифицирует себя как представителя другой национальности, соотносит себя с севером. Основные мотивы, с ним связанные, следующие:
– сочувствие Армении и ее народу: «Где холод и мороз, и воздух где суровый, / Там мой народ, моя страна. / Но тронулся и я несчастьем Гай-астана <…>» (Ю. Веселовский) [Амирханян 2022, 221];
– сыновняя любовь к Армении несмотря на принадлежность к другой стране: «Все люблю горячо я в тебе, / Все, чего я не ведал когда-то, / А теперь. Теперь в бедном рабе / Армянине увидел я брата…» (К. Саянский) [Амирханян 2022, 237];
– глубокое сострадание, которое может сочетаться с ненавистью к гонителям: «Я врагов исступленно кляну / И шепчу им проклятым, угрозы. / А душой к умирающим льну» (К. Саянский) [Амирханян 2022, 238];
– восхищение: «Увижу ль я когда тебя, о край блаженный! / Я о тебе всегда на севере мечтал <…>» (Ю. Веселовский) [Амирханян 2022, 223];
– вера в светлое будущее страны: «Моя Армения родная, – / Уж скоро скука неземная / Исчезнет прочь, / И злая ночь / Уйдет, в лучах зари растая!» (Е. Алексеева) [Амирханян 2022, 231];
– желание познать великое прошлое, приобщиться к нему: «<…> я стою в надежде слышать слово / То страшное... Скажите мне его. / Я не уйду. Стоять тут буду годы / Ответа ждать: чтоб знали все народы / Историю народа одного...» (К. Саянский) [Амирханян 2022, 235];
– принятие на себя судьбы Армении и ее народа: «Как прежде звенит кандалами / Отчизна родная моя... / Обильно полита слезами / Несчастная наша земля... (Е. Алексеева) [Амирханян 2022, 228];
– неожиданное решение – противостояние лирического субъекта своим русским соотечественникам, не понимающим и не разделяющим его любовь к Армении, и надежда на благодарную память армян – возникает в творчестве Ю. Веселовского: «Я был смешон толпе: минувшим увлеченный, / Я пел про старину Армении сынов; / Чужой историей и славой возбужденный <…>» [Амирханян 2022, 225];
– от С. Городецкого вплоть до М. Матусовского идет мотив вины: «Прошу у вас прощения, армяне, / Что я рожден в пятнадцатом году» [Амирханян 2022, 394].
В стихотворениях об Армении в XXI в. лирический субъект, как и в целом в русской поэзии, отступает на второй план. Вместе с ним уходит как исповедальность, так и публицистичность. Их место занимает культурное и философское осмысление того, что Армения дала миру и культуре. Подобные стихотворения тяготеют к экфрасисам и подчеркнуто обыгрывают уже сложившийся культурный код страны.
Список литературы Образы лирических субъектов в стихотворениях русских поэтов об Армении
- Абашев В.В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе ХХ века. Изд. 2-е, доп. Пермь: Звезда, 2008. 500 с.
- Амирханян М.Д. Армения в зеркале русской поэзии. Ереван: Копи Принт, 2022. 662 с.
- Амирханян М.Д., Павлова Л.В., Романова И.В. Реконструкция «армянского» текста в русской поэзии ХХ века (опыт компьютерного исследования) // Известия Смоленского государственного университета. 2020. № 2(50). С. 5–21.
- Анциферов Н.П. Быль и миф Петербурга. Пг.: Брокгауз–Ефрон, 1924. 88 с.
- Булкина И.С. Киев в русской литературе первой трети XIX века: пространство историческое и литературное. Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus, 2010. 213 с.
- Вологодский текст в русской культуре: сборник ст. по материалам конференции. Вологда: Легия, 2015. 379 с.
- Голубев Н.А. Формирование локального текста: Ивановский опыт: дис. … к. филол. н.: 10.01.01. Иваново, 2014. 241 с.
- Кунусова А.Н. Венецианский текст в русской поэзии XX века: дис. … к. филол. н.: 10.01.01. Астрахань, 2011. 211 с.
- Курьянов С.О. «Тайный ключ русской литературы»: генезис, структура и функционирование Крымского текста в русской литературе X–XIX веков. Симферополь: Бизнес-информ, 2014. 424 с.
- Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Труды по знаковым системам. Вып. XVIII. Тарту: Издательство Тартуского университета, 1984. С. 30–46.
- Люсый А.П. Крымский текст в русской литературе. СПб.: Алетейя, 2003. 314 с.
- Москва и «московский текст» русской культуры: сб. статей. М.: РГГУ, 1998. 224 с.
- Павлова Л.В., Романова И.В. «Армянский» текст русской поэзии (интерпретация данных программного комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских текстах») // Новый филологический вестник. 2020. № 4(55). С. 212–225.
- Прохорова Л.С. Лондонский городской текст русской литературы первой трети XIX века: дис. … к. филол. н.: 10.01.01. Томск, 2005. 194 с.
- Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // Труды по знаковым системам. Вып. XVIII. Тарту: Издательство Тартуского университета, 1984. С. 4–30.
- Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 28–35.
- Шафранская Э.Ф. Армянский текст: стихи и проза // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2022. № 6. С. 135–143.
- Шафранская Э.Ф. Туркестанский текст в русской культуре: Колониальная проза Николая Каразина (историко-литературный и культурно-этнографический комментарий). СПб.: Свое издательство, 2016. 370 с.