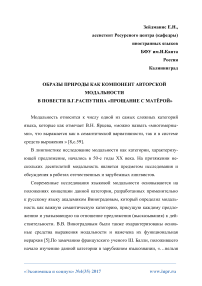Образы природы как компонент авторской модальности в повести В.Г. Распутина «Прощание с матёрой»
Автор: Зейдманис Е.Н.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Современные науки и образование
Статья в выпуске: 4 (35), 2017 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140123315
IDR: 140123315
Текст статьи Образы природы как компонент авторской модальности в повести В.Г. Распутина «Прощание с матёрой»
Модальность относится к числу одной из самых сложных категорий языка, которые как отмечает В.Н. Ярцева, «можно назвать «многомерными», что выражается как в семантической вариативности, так и в системе средств выражения » [8,с.59].
В лингвистике исследование модальности как категории, характеризующей предложение, началось в 50-е годы XX века. На протяжении нескольких десятилетий модальность является предметом исследования и обсуждения в работах отечественных и зарубежных лингвистов.
Современные исследования языковой модальности основываются на положениях концепции данной категории, разработанных применительно к русскому языку академиком Виноградовым, который определил модальность как важную семантическую категорию, присущую каждому предложению и указывающую на отношение предложения (высказывания) к действительности. В.В. Виноградовым были также охарактеризованы основные средства выражения модальности и намечена их функциональная иерархия [5].По замечанию французского ученого Ш. Балли, положившего начало изучению данной категории в зарубежном языкознании, «…нельзя придавать значение предложения высказыванию, если в нем не обнаружено хоть какое-либо выражение модальности» [2,с.44].
Объем содержания термина авторская модальность , появление которого связано с работами таких ученых, как Л.Г. Барлас , В.А. Кухаренко , М.И. Откупщикова до сих пор не имеет однозначного понимания, однако анализ существующих трактовок авторской модальности позволяет свести их к двум основным, различающимся по степени широты подхода к ее пониманию. [3,с.9].
Согласно узкому подходу авторская модальность рассматривается как «воплощение авторской интенции» [7, с. 11]. Определенным недостатком этого подхода по мнению профессора Ваулиной С.С. [4,с.8] является то, что он, «привязывая» авторскую модальность преимущественно к образу автора, не охватывает в полной мере всех разновидностей оценочных смыслов текста (в первую очередь, художественного), включающих не только «модальные ( интенциональные эмотивные смыслы в структуре образа автора)», но также «диктальные (эмотивные смыслы в структуре образа персонажа)» и «экстенсиональные (эмотивные смыслы, наведенные в сознание читателя содержанием текста)» . [1,с. 215].
Согласно более широкому подходу авторская модальность понимается как многоплановая категория, не ограниченная лишь образом автора, но охватывающая и образ персонажей [6; 7].
В данной статье рассматриваются образы природы как компонент авторской модальности в повести В.Г.Распутина «Прощание с Матерой».
Валентин Григорьевич Распутин был младшим по возрасту представителем открытого главным редактором журнала «Новый мир» Александром Твардовским и завоевавшего в 1960-х и 1970-х большую популярность литературного направления «деревенской прозы», к которому также относились такие писатели, как Виктор Астафьев, Василий Шукшин, Федор Аб- рамов. Распутин с тоской вспоминал о мире размеренной жизни, физического труда, близости к природе, крепких многочисленных семей, мир, разрушенный сталинской коллективизацией. «Деревенщики» не вступали в конфронтацию с советской властью, но находили индустриализацию и урбанизацию губительной, скептически относились к интернационализму. Валентин Григорьевич осуждает бывших крестьян, подавшихся в город за лучшей и более легкой долей, видит идеал в деревенских старухах, безропотно сносивших непосильный труд и бедность []. С двух лет Валентин Распутин жил в сибирской деревне Аталанке Усть-Удинского района, которая впоследствии попала в зону затопления после строительства Братской ГЭС, поэтому он не понаслышке знает о том, какие душевные страдания пришлось пережить людям, вынужденным во имя прогресса покидать свою малую Родину. Именно об этом он рассказывает в своей повести «Прощание с Матерой», опубликованной в 1976 году. В повести описывается одна из таких деревень, которые по приказу сверху должны исчезнуть с лица земли, быть затоплены. Крестьян насильственно переселяют в другое место – в «перспективное» село, построенное бездарными, чуждыми русскому духу «специалистами» без любви к людям, которым предстоит здесь жить [].
Главными героями повести являются Дарья Пинигина – центральный образ, олицетворяющий женское материнское начало, ее сыновья Павел и Андрей, Катерина- мать Петрухи Зотова, Настасья Карпова – младшая из старух, но самая слабая характером, странным образом появившийся в Матере чудной старик Богодул. Валентин Распутин глубоко сочувствует героям повести, передавая свое отношение к ним и к происходящим событиям, свое авторское видение картины мира через различные средства, в том числе через описание природы.
В повести содержатся яркие образы природы родного края как неотрывной части образа самого села. В плане сказанного весьма важным представляется не только описание самой реки и острова, но и мистический образ зверька – Хозяина острова. Писатель не сообщает читателям, каким зверьком является Хозяин. Впервые знакомясь с ним, встречаем такое описание: …маленький, чуть больше кошки, ни на кого другого не похожий зверек-хозяин острова (43) 1. У него нет названия – слово хозяин стало именем собственным и в дальнейшем употребляется только с заглавной буквы.
Таинственность в описании добавляется рефреном отрицательной частицы не , отрицательных местоимений и наречий, а также антитезой «никто и все»: …никто никогда его не видел, не встречал, а он знал всех и знал все, что происходило…, Только так и можно было оставаться Хозяином -чтобы никто его не встречал, никто о его существовании не подозревал (43).
Автором подчеркивается особое значение звуков, воспринимаемых Хозяином. Они делятся на «громкие и грубые» – это тяжкий, натуженный скрип старой лиственницы, глухое топтание пасущихся коров, непрестанное шевеление всего, что живет на улице… (44), и те, которые можно услышать только особенным чутьем, которые можно только прочувствовать, прожить: шорох мыши, слабое замирание качнувшейся ветки, дыхание взрастающей травы. Он слышит и как …лопнул плававший с вчера пузырек, или содрогнулась, умирая, рыба, как сорвался с березы последний лист (45).
Хозяин был тем, кто все видел и все ведал. Он видел…как придет сюда Катерина и будет ходить тут до ночи, что-то отыскивая, что-то воро- ша в горячей золе и в памяти, как придет она после завтра, и после….и после (46).
Использование зевгмы «вороша в золе и в памяти» передает не просто ведение явного, но и провидение будущего. Привычная картина мира представляется малозначительной, суть передается через прочувствование, знание на подсознательном уровне.
Появление Хозяина встречается только в ночную пору, когда спит остров и люди, живущие на нем. Остров представляется как живой организм, олицетворяется: … Матера уснула, …остров собирался жить еще долго (48).
Хозяин видит и слышит сны, но не так, как обычные люди, проживающие ночью иную, подсознательную жизнь, а видит сон со стороны, видит то, что простому человеку не дано увидеть: Сейчас эти сны бледно вспыхнули за окном, как дальние-предальние зарницы, и уже по одним этим отсветам можно было понять, где есть люди и где их нет… (47).
Для Хозяина возможно не только увидеть, но и тактильно ощутить сон: Старухам снились сухие тревожные сны, которые слетали к ним уже не по первой очереди…. Звукопись старухам, снились, сухие, слетались передает восприятие сна как шелест опавшей безжизненной листвы. Неслучайно в качестве одного из синонимов оценочного прилагательного сухой выступает отпричастное прилагательное омертвевший.
Автор описывает как смерть и забвение прокрадываются сначала в сон, а затем и в явь.
Авторская модальность реализуется в повести и с помощью приема повтора. Так, в небольшой главе, занявшей один печатный лист, при описании пожара избы, подожженной Петрухой ради легких денег, Распутин использует десятикратное повторение он видел , Хозяин смотрел (47).
В качестве способов реализации авторской модальности следует отметить также семантическую емкость концовок. Многие главы повести заканчиваются абзацами в одно предложение: Остров собирался жить долго (48);И дальше дни пойдут без запинки мимо, все мимо и мимо.(102). И весьма показательно, что заканчивается глава, описывающая Хозяина Матеры, абзацем в одно предложение с многоточием в конце: Но он видел и дальше…. Здесь на уровне подтекстовой информации звучит мысль о том, что зверек был не простым созерцателем происходившего, а душой острова, остро чувствовавшим всю трагедию того, что происходит и что будет происходить.
Как и любое животное, данный зверек обладал острым обонянием, но Хозяин не просто чувствовал запахи, он предчувствовал ход жизни: … предчувствовал Хозяин, что скоро одним разом все изменится настолько, что ему не быть Хозяином, не быть вовсе ничем (45).
Употребление двойного отрицания не быть вовсе ничем передает всю атмосферу, безысходности, в которую были загнаны люди, обреченные бросить свои дома. Особое внимание уделяется автором не действительным, явным запахам, а тем, которые неуловимы для простого обывателя – запахам смерти и забвения при описании Богодула и Петрухиной избы. И вновь мы встречаем реализацию авторской идеи прощания с малой Родиной через сочетание живого и неживого, жизни и прощание с ней, лейтмотивом пронизывающее все произведение: Хозяин уже не в первый раз почуял: здесь, в Матере, и достанет наконец Богодула смерть, что живет он, как и Хозяин тоже, последнее лето, От нее (избы) исходил тот особенный, едва уловимый одним Хозяином, износный и горклый запах конченной судьбы, в котором нельзя было ошибиться (45).
Не запах копоти и гари почувствовал Хозяин, а запах людской трагедии.
В повести достаточно часто используются центральные экспликаторы ситуативной и субъективной модальности, употребление которых способствует созданию ясности, четкости и объективности изложения видения всего происходящего. Так, при описании Хозяина нами зафиксированы следующие средства реализации модальных значений:
Модальные предикативы надо и должен при реализации значения необходимости. Например: Кому-то надо и начинать последнюю верность, с кого-то и начинать. Если в избах есть домовые, то на острове должен быть и хозяин (44).
Модальный глагол мочь и предикатив нельзя , реализующие модальное значение возможности / невозможности. Например: Он не держался одной дороги, сегодня мог бежать левой стороны, а завтра правой, мог с половины земли, откуда-нибудь от сосновой рощи, повернуть назад, а мог добежать до конца.… От нее исходил тот особенный, едва уловимый одним Хозяином, износный и горклый запах конченной судьбы, в котором нельзя ошибиться (44).
Вводные слова может, верно, похоже, выражающие модальное значение вероятности : Например: Быть может они были где-то и теперь...; но сегодня было сдержанней и слабей, - верно , солнце завтра не взойдет. Сегодня, похоже , деревня успокоилась и уснула (44 ,45).
Таким образом, образы природы, описанные автором в повести, помогают читателю глубже прочувствовать проблему, с которой столкнулись герои повести. Природа выступает не только фоном, на котором происходят события, но и активно учувствует в жизни деревни. Различные языковые средства, а именно звукопись, рефрен, зевгма, использование модальных предикатов, модальных глаголов и вводных слов помогают читателю глубже прочувствовать всю трагедию событий.
Список литературы Образы природы как компонент авторской модальности в повести В.Г. Распутина «Прощание с матёрой»
- Бабенко Л.Г., Васильев И.Е., Казарин Ю.Б. лингвистический анализ художественного текста. Екатеринбург, 2000.
- Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: Изд-во иностр. лит., 1955. 416 с.
- Барлас Л.Г. Источники текстовой выразительности//проблемы экспрессивной стилистики. Ростов н/Д, 1987.
- Ваулина С.С., Девина О.В. Вестник 2010/8 Российского государственного университета им.И.Канта, с.8
- Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке//Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М.: Наука, 1975. С. 53 -87.
- Маркова Н.А. Прагматические особенности художественного текста//Принципы изучения художественного текста: сб. научн. тр. Саратов, 1992.
- Страйтийчук Е.Ю. Персональность как текстообразующая категория художественного текста: на материале русского и английского языков: автореф. дис. … канд. филолог. наук. Ростов н/Д, 2006.
- Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. М.: Наука, 1981. 86 с.
- Словарь русского языка/АНН СССР, Ин-т русского языка. М., 1985-1988. Т. 1-4.
- Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1948-1965. Т.1-17.
- Распутин В.Г. Повести и рассказы. Москва «Современник» 1985.
- www.bbc.com
- www.litra.ru