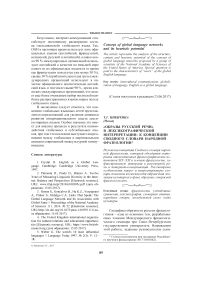"Образы русской речи" в лексикографической интерпретации: к концепции сводного словаря народной фразеологии
Автор: Никитина Татьяна Геннадьевна
Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 7 (120), 2017 года.
Бесплатный доступ
Изложена концепция Сводного словаря народной фразеологии, который объединит материалы отечественных фразеографических источников XIX-XXI в. и новую фразеологию, зафиксированную авторами в разговорной речи и интернет-коммуникации. Рассмотрены особенности макро- и микроструктуры словаря, показаны возможности отражения эволюции культурного фона образных стержней фразеологизмов.
Фразеология, устойчивые сравнения, лексикография, словарная статья, народные говоры, молодежный сленг, коды культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/148167037
IDR: 148167037
Текст научной статьи "Образы русской речи" в лексикографической интерпретации: к концепции сводного словаря народной фразеологии
нара профессором В.М. Мокиенко в известной монографии «Образы русской речи» [7], получают свое лексикографическое воплощение в новом проекте творческого коллектива «семинаристов» – Сводном словаре народной фразеологии, куда будут включены фразеологические материалы изданных в XIX–XXI вв. диалектных словарей и фольклорных сборников, словарей русского жаргона и городской речи, фразеологизмы, функционирующие в интернет-коммуникации и современной живой речи носителей русского языка, записанные собирателями в разных регионах России.
Идея объединения такого разнородного материала была апробирована разработчиками нового лексикографического проекта 10 лет назад в Большом словаре русских поговорок [10], где было описано более 40 тысяч фразеологизмов (термины поговорка и фразеологизм трактуются авторами словаря как равнозначные). Тогда был реализован и новый для отечественной фразеографии принцип расположения материала – по стержневому слову, позволяющий не только быстро отыскать любую поговорку, но и получить полное представление об образном потенциале и фраземообра-зовательной активности ее ключевого компонента.
Если Большой словарь русских поговорок [Там же] по объему материала в 7 раз превосходил коллекцию поговорок В.И. Даля, включенных в его знаменитый сборник паремий [4], то Сводный словарь народной фразеологии еще более полно представит читателям русскую идиоматику: здесь максимально расширится круг источников материала, а в объект описания будет включен и еще один, особый тип фразеологических единиц – устойчивые сравнения (или компаративные фразеологизмы), которые ранее описывались, в том числе и разработчиками нового проекта, только в специальных словарях [9]. Согласно замыслу В.М. Мокиенко, такое описание разных типов народных фразеологизмов в едином словарном корпусе позволит лексикографически представить фразеологический сегмент национального языка как относительно полную систему [8].
Стержневой принцип расположения материала будет сохранен и в этом проекте: фразеологизмы-идиомы и устойчивые сравнения (УС) в рамках макростатьи объединит стержневой компонент фразеологического образа. Микростатья – единица описания отдельного фразеологизма – представит его начальную форму, область распространения (географиче- ские пометы), семантику с оценочными коннотациями (дефиниция и эмотивно-оценочные пометы), паспортизацию источника и при необходимости историко-этимологический комментарий:
НАЛИМ ( хищная рыба семейства тресковых) * Гладкий налим. Костром. Ирон. О полном, упитанном человеке [20, т. 20, с. 17].
Как налим в кислой воде. Новг. Об испытывающем тревогу человеке [14, т. 5, с. 153].
Налима съесть. Пск., Твер. Упасть, сильно удариться [20, т. 20, с. 17].
Пузатый налим. Пск. Ирон. О ленивом, толстом человеке [Там же, т. 20, с. 17].
Скользкий (слизкий) как налим. На-родн. Неодобр. О чем-л. скользком, выскальзывающем [9, с. 425].
НАЧАЛЬНИК (руководитель отдела, предприятия, учреждения и т.п.) * Начальник дурдома . Жарг. шк. Шутл.-ирон. Директор школы [10, с. 428].
Начальник над лягушками в болоте . Прост. Ирон. О псевдоруководителе, не имеющем подчиненных [21, c. 90].
Начальник над скотиной. Пск. Животновод, зоотехник [17, т. 20, с. 413].
Начальник Чукотки. Публ. Ирон. О бывшем губернаторе Чукотского автономного округа (особенно – Романе Абрамовиче) [15, т. 2, с. 1058-1059] < От названия кинофильма режиссера В. Мельникова «Начальник Чукотки» (1966 г.).
Ходить к начальнику. Жарг. мол. Шутл. Посещать туалет [6, с. 272].
Ходить (расхаживать) где как начальник. Разг. Неодобр. или Ирон. О расхаживающем где-л. со значительным видом, важно наблюдая за другими, человеке [9, с. 429].
Целоваться с начальником. Жарг. мол. Шутл.-ирон. О рвоте в унитаз [6, с. 272].
ОВЁС1 (травянистое сельскохозяйственное растение) * Гнать овсом. Пск. Хорошо кормя лошадь, заставлять ее быстро передвигаться [17, т. 22, с. 488]. < Употребляется в составе пословицы Не гони коня кнутом, а гони овсом.
(Дети) как овёс. Новосиб. Один другого меньше (о большом количестве детей) [20, т. 22, с. 295].
Как овса кого, чего. Кар. О большом количестве чего-л. [19, т. 4, с. 129].
Не овсом и кормлен. Волог. Не жалко (чьего-л. ухода, отъезда; кого-л.) [20, т. 22, с. 295] .
Ни овёс, ни ячмень. Волог. О бесхарактерном, вялом, неловком человеке, у которого все валится из рук; ни то, ни се [20, т. 34, с. 162] .
Хоть овёс вей . Волог. Неодобр. О холоде, сквозняке в помещении [Там же, т. 22, с. 295].
Результатом языковой игры, основанной на созвучии, стал зафиксированный в среде футбольных фанатов фразеологизм пастись в овсе – ‘находиться в положении вне игры (в офсайде)’: Вагнер часто в овсе пасется. На то он и конь (Запись 2004 г.) [13, с. 161]*. Представители фан-культуры употребляют и другие формы сленгизма, фонетически сближающиеся со словом офсайд : забил из овса, не было овса и т.п. (ассимиляция по глухости: [в] → [ф]). Употребление сленгизма овёс (‘положение вне игры’) в исходной форме нами не зафиксировано, тем не менее эта форма как потенциально возможная выносится в заголовок-омоним, под которым и разрабатывается сленговый фразеологизм, ставший результатом языковой игры:
-
[ ОВЁС2 ] (в сленге футбольных фанатов: положение вне игры) * Пастись в овсе. Жарг. футб. Шутл. Находиться в положении вне игры, в офсайде [12, с. 167] < По созвучию: в овсе – в офсайде.
Таким образом, макростатьи словаря отразят древнейшие «образы русской речи», восходящие к базовым кодам культуры – растительному, зоологическому, пищевому и др., и социокультурно маркированные метафоры как результат образного осмысления новых реалий и реинтерпретации старых образных мотивов.
Как правило, такая реинтерпретация, перекодирование образа происходит при развитии переносного значения слова, выполняющего роль образного стержня фразеологизмов. Так, выражение сидеть на траве в народных говорах функционирует в значении ‘лечиться лекарственными травами’, а в молодежном сленге означает регулярное употребление гашиша (жарг. трава, травка – ‘гашиш, наркотик для курения’). Каждый лексико-семантический вариант многозначного слова формирует свой круг ассоциаций, на которых базируются тропы, лежащие в основе новых фразеологизмов. Этим обусловлено выделение блоков внутри макростатьи, как и в случае с образным стержнем трава:
TРАВА (1/ растение, не имеющее древесного ствола) * Бестолковая как трава. Ирк. Пренебр. О глупой, непонятливой женщине [9, с. 687].
Вырывать / вырвать кого, что как сорную (худую) траву из поля. Народн. О полном и решительном уничтожении, избавлении от кого-л., чего-л. зловредного, негодного [Там же, с. 688].
Гнать (выгонять, пастись) на [вторую, третью и т.д. ] траву. Пск. Гнать, выгонять пастись на второй, третий и т.д. год (о возрасте животного) [20, т. 44, с. 324] .
-
(2/ гашиш, наркотик для курения) * Божья трава. Жарг. нарк. Гашиш [2, с. 912].
Нюхнуть траву. Жарг. мол. Курить гашиш [1, с. 115].
Сидеть на траве . Жарг. мол. Курить гашиш [10, с. 669].
Внутри блока фразеологизмы располагаются в алфавитном порядке по первой букве для удобства пользователя, которому необходимо быстро отыскать определенный фразеологизм. Внимательное прочтение всей макростатьи позволит получить целостное представление о фразеологической объективации определенных элементов растительного кода культуры (при понимании кода культуры как «концептуальной области универсальных и наиболее значимых культурных смыслов» [5, с. 172]), а также осмыслить комплекс коннотаций лексической единицы трава , детерминированных растительным кодом культуры, единицей которого это слово является.
Так, из дефиниций и комментариев, сопровождающих фразеологизмы в микростатьях первого блока словарной статьи «ТРАВА», читатель узнает о качествах травы, которые в народном сознании стали эталонами вкуса (трава травой, безвкусный как трава – ‘о пресной, безвкусной пище’), большого количества (как травы [в лесу] – ‘о большом количестве чего-л.’), цвета (зеленый как трава – ‘о зеленовато-бледном цвете лица’). В фольклорной традиции, как отмечает В.М. Мокиенко, трава является и мерилом чего-л. невысокого, эталоном «нижины». Она «оплетает ноги, приминается конскими копытами, стелется муравой» [7, с. 246–247]. Отсюда – устойчивые образные ассоциации, лежащие в основе мотивировок фразеологизмов, обозначающих робкого, нерешительного человека: тише воды, ниже травы; ниже травы (Коми, Сиб.) [9, с. 688]; ниже травы, тише воды [21, с. 416]; трава-человек (Орл.) [20, т. 44, с. 323], характеризующих беспрекословное подчинение, повиновение кому-л. или поведение угодливого подхалима: стелиться травой (как трава), расстилаться ниже травы [9, с. 688].
«Метричность» травы в народной фразеологии не ограничивается пространственной сферой, а реализуется и при отражении временных показателей, например возраста домашних животных, для которых трава на пастбищах является основным естественным кормом:
Есть вторую (третью, пятую и т.п. ) траву. Кар., Перм. Быть в определенном возрасте (о животных) [20, т. 33, с. 236].
Идти / пойти на третью (четвертую и т.д.) траву. Новг. Достичь трех, четырех и т.д. лет [Там же, т. 44, с. 324] .
На первой (на второй, третьей и т.д. ) траве. Камч., Новг., Якут. Годовалый, двухлетний, трехлетний (о возрасте лошади, коровы). По первой (на второй, третьей и т.д. ) траве. Народн. То же. На первую (вторую, третью) траву [пошёл, пошла]. Новг., Твер. То же [Там же, т. 14, с. 274, 349; т. 44, с. 324; т. 45, с. 63].
Седьмая трава. Кар. Семь лет (о возрасте животного) [19, т. 6, с. 502].
Высоко оцениваются полезные свойства травы и в народной медицине. Прагматически ориентированные наименования – неоднословные народные термины, включенные в Сводный словарь фразеологии, – фиксируют в своей мотивировке «назначение» препарата применительно к конкретному диагнозу или отражают широкий спектр его действия:
Грыжная трава. Прикам. Растение кошачьи лапки [16, с. 100] < Применяется при лечении грыжи.
Желтушная трава. Прикам. Растение череда [16, с. 100] < Применяется при лечении желтухи.
Женская (маточная) трава. Прикам. Растение повилика цветоножковая [Там же] < Рекомендуется для лечения заболеваний мочеполовой системы, женских болезней.
Занозная трава. Волог. Подорожник [10, с. 668] < Компресс из листьев подорожника применяется для удаления заноз.
В природно-ландшафтном аспекте трава интерпретируется народным сознанием как неотъемлемый компонент окружающей среды. Элементарная прогулка по траве становится образным мотивом метонимических фразеологизмов-эвфемизмов, восходящих к архетипической оппозиции «жизнь – смерть», «свобода – несвобода», таких как записанный в Рязанской области оборот не топтать травы – ‘умереть’ [20, т. 44, с. 323], калужское травы не топтать кому – ‘кто-л. скоро умрет’ [Там же, с. 257], бытующий в криминальной среде фразеологизм идти / пойти на траву (на травушку) – ‘совершать побег из заключения (в летнее время)’ [10, с. 669]. Ср.: мять (топтать) траву 1. (новг., перм.) – ‘жить, существовать’ [Там же]. 2. (жарг. угол.) – ‘находиться на свободе, не в заключении’ (Запись 2016 г.).
Архетипическая оппозиция «жизнь – смерть» прочитывается и в оборотах с «растительным» компонентом вянуть , актуализирующих в своей внутренней форме смысл потери растением свежести, его засыхания, гибели [5, с. 190]. В нашем материале они также широко представлены:
Вянуть / повянуть (завять, завянуть, призавянуть, призавять, сповянуть) как [кошё-ная] трава. Фольк. О чахнущем, болеющем и слабеющем от тоски, неволи, болезни и т.п. человеке (обычно – женщине) [17, т. 11, с. 119; 20, т. 5, с. 209, т. 28, с. 304].
Голова у кого вянет как трава. Пск. Не-одобр. 1. Об унывающем, печалящемся, болезненно тоскующем человеке. 2. О потере с возрастом способности быстро рассуждать, думать < Вянуть – лишаться свежести, увядать [17, т. 6, с. 119].
Жить как трава вянет . Кар . Об одиноком, живущем в нищете человеке [20, т. 44, с. 323].
Погаснуть как трава. Брян. О тихо и незаметно умершем человеке [9, с. 687].
Сердце (сердечко) вянет как трава у кого. Пск. Фольк. О чьей-л. сильной сердечной тоске, кручине [17, т. 6, с. 119].
В контексте противопоставления живого и мертвого, как отмечает М.Л. Ковшова, может рассматриваться и фразеологизм после меня хоть трава не расти – ‘о полном безразличии, равнодушии к чему-л.’. Рост травы как ее онтологическое свойство переосмысляется здесь и в ценностных категориях благополучия, а фразеологизм в целом становится эталоном безразличного отношения к чужим проблемам и, таким образом, может быть соотнесен также с архетипической оппозицией своего и чужого [5, с. 190–191]. Шутливо-ироническое развитие этого образного мотива находим в народной фразеологии: «благополучие» эксплицируется здесь во второй части трансформированного фразеологизма, а безразличие проявляется к способам получения материальных благ, на что указывает первая, уступительная предикативная часть оборота: Хоть трава не расти, только бы сено было [у кого]. [18, с. 49].
Еще один вариант обращения к признаку «способность расти» воплощается в своеобразной реализации фразеологической «формулы невозможного» в народных говорах: исчезновение этого онтологического свойства травы представляется здесь таким же невозможным, как и невыполнение данного кому-л. обещания, намеченного плана и т.п.: Tраве не расти .Том. При любых условиях, обязательно [20, т. 44, с. 323] .
Субкультурно маркированный образ травы, который раскрывается во втором блоке словарной макростатьи, объективируется фразеологизмами, бытующими в среде потребителей, дилеров и производителей наркотиков. Для них трава , как отмечалось выше, – это сырье (травянистое растение конопля) и изготовленный из этого сырья наркотик для курения (гашиш).
Единицы растительного «субкультурного кода» отражают здесь такой существенный признак именуемого фитообъекта, как место произрастания ( китайская трава – манчжурская конопля («манчжурка»), чуй-трава – конопля из Чуйской долины («чуйка»), шутл. ЮФО-трава – краснодарская конопля («краснодарка»)), указывают на способ употребления изготовленного нарко-продукта: дым-трава, дымок-трава ; показывают воздействие наркотика:
Дурман-трава. Жарг. нарк. Гашиш (Запись 2015 г.) < Оказывает одурманивающее воздействие; дурман (лат. Datura ) – официальное название галлюциногенного растения семейства пасленовых.
Смешная трава. Жарг. нарк. Гашиш [6, c. 392] < Вызывает непроизвольный смех.
Шайтан-трава. Жарг. нарк. Гашиш [11, с. 327] < Вызывает агрессивное состояние; шайтан – у мусульман: злой дух, демон.
Эвфемизм божья трава , содержащий положительные коннотации ( Божья трава в киче /в тюрьме/ на вес золота [2, с. 912]), употребляется в субкультурной среде, как правило, по отношению к качественному наркотику. Противоположный полюс оценки отражает шутливо-иронический фразеологизм, обозначавший ранее некачественный табак [6, с. 426]:
Tрава с могилки Хо Ши Мина. Жарг. мол. Шутл.-ирон. Гашиш низкого качества (Запись 2015 г.).
Популярность наркотиков для курения не только в субкультуре наркоманов, но и в целом в молодежной среде (о чем можно только сожалеть), доказывает большое количество общемолодежных фразеологизмов, отражающих процесс приобщения к траве – наркотику для курения ( сесть (присесть) на траву, упасть на траву, приколоться к траве ), его регулярное употребление ( сидеть на траве, нюхать траву, торчать на траве ), акт приема наркотика для курения ( нюхнуть (понюхать) травы ), отказ от наркотика: слезть с травы, слететь с травы, спрыгнуть (соскочить) с травы.
Смысловая триада ‘приобщиться к наркотикам’ – ‘регулярно употреблять наркотики’– ‘прекратить употреблять наркотики’ более широко представлена фразеологизмами в социальных диалектах, чем в территориальных диалектах отражены соответствующие понятия, связанные с лечением травами, хотя отдельные образные параллели (они были показаны выше) здесь имеются.
Параллели с народными говорами на уровне образной структуры фразеологизмов просматриваются и в сленговых оборотах, передающих темпоральные характеристики своего, специфического объекта. Так, фразеологизмы первая трава, вторая трава, третья трава и т.п. относятся здесь к «возрасту», времени эксплуатации участка, нелегально засеянного коноплей: На второй траве менты поляну пожгли (Запись 2015 г.); Этот плантарь /плантация/ – вторая трава (Запись 2016 г.).
Согласно концепции Сводного словаря народной фразеологии, контексты употребления ФЕ не будут включены в словарные статьи в силу ограничения объема печатного издания, где будет описано около 130 тыс. фразеологических оборотов, но в формате электронной базы данных (ее создание также планируется) репрезентация иллюстративного материала будет реализована, что позволит сделать выводы и об особенностях живого функционирования ФЕ. Реализация же проекта в рамках рассмотренной в статье концепции даст возможность, с одной стороны, во всех деталях представить эволюцию фразеологических образов в новых социокультурных условиях, а с другой – отразить константы русской культуры как неиссякаемый источник фразеологической образности.
Список литературы "Образы русской речи" в лексикографической интерпретации: к концепции сводного словаря народной фразеологии
- Вахитов С. В. Словарь уфимского сленга. Уфа: Изд-во БГПУ, 2003.
- Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго: 27 000 слов и выражений. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003.
- Гудков Д.Б. Единицы кодов культуры: проблемы семантики//Язык, сознание, коммуникация: сб. ст./отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. М.: МАКС Пресс, 2004. Вып. 26. С. 39-50.
- Даль В.И. Пословицы русского народа. М.: Худож. лит., 1957.
- Ковшова М.Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии: Коды культуры. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012.
- Максимов Б.Б. Фильтруй базар. Словарь молодежного жаргона города Магнитогорска. Магнитогорск: МаГУ, 2002.
- Мокиенко В.М. Образы русской речи: Историко-этимологические и этнолингвистические очерки фразеологии. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986.
- Мокиенко В.М. Принципы Ларинской лексикографии в трехтомном Большом словаре пословиц, поговорок и сравнений русского языка//Вопросы лексикографии. 2012. № 1. С. 70-84.
- Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских народных сравнений. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
- Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских поговорок. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
- Никитина Т.Г. Ключевые концепты молодежной культуры. Тематический словарь сленга. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013.
- Никитина Т.Г., Рогалёва Е.И. Оле-оле-оле! Словарь футбольного болельщика. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.
- Никитина Т.Г., Рогалёва Е.И. Футбольный словарь сленга. М.: Астрель, 2006.
- Новгородский областной словарь/отв. ред. В.П. Строгова. Великий Новгород: Изд-во НГПУ -НовГУ им. Ярослава Мудрого, 1992-2000. Вып. 1-13.
- Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века: в 2 т./отв. ред. Т.Н. Буцева. СПб.: Дмитрий Буланин, 2009.
- Прокошева К.Н. Материалы для словаря говоров Северного Прикамья. Пермь: Перм. пед. ин-т, 1972.
- Псковский областной словарь с историческими данными/под ред. Б.А. Ларина . Л. (СПб.): ЛГУ (СПбГУ), 1967-2016. Вып. 1-26.
- Рыбникова М.А. Русские пословицы и поговорки. М.: Изд-во АН СССР, 1961.
- Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей/гл. ред. А.С. Герд. Вып. 1-6. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1994-2005.
- Словарь русских народных говоров/гл. ред. Ф.П. Филин, Ф.П. Сороколетов. М.; Л.; СПб.: Наука, 1965-2014. Вып. 1-47.
- Соколова М.И. Народная мудрость: Пословицы и поговорки. Новосибирск: Офсет, 2009.