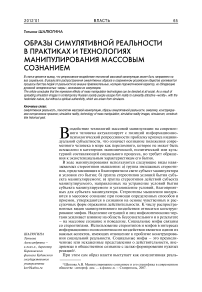Образы симулятивной реальности в практиках и технологиях манипулирования массовым сознанием
Автор: Шалюгина Татьяна Александровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 1, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье делается вывод, что репрессивное воздействие технологий массовой манипуляции может быть направлено на все социальное. В результате распространения симулятивных образов в современном российском обществе усиливаются процессы бегства людей от реальности во внешне привлекательные, носящие гедонистический характер, но обладающие духовной неподлинностью «миры», возникшие из симулякров.
Симулятивная реальность, технологии массовой манипуляции, образы симулятивной реальности, симулякр, конструируемое историческое прошлое
Короткий адрес: https://sciup.org/170166072
IDR: 170166072
Текст научной статьи Образы симулятивной реальности в практиках и технологиях манипулирования массовым сознанием
В оздействие технологий массовой манипуляции на современного человека актуализирует с позиций информационнопсихологической репрессивности проблему кризиса индивидуальной субъектности, что означает осознание положения современного человека в мире как переломного, которое не может быть осмыслено в категориях экономической, политической или культурной составляющей социального процесса, но требует обращения к экзистенциальным характеристикам его бытия.
В ходе манипулирования используются следующие виды навязываемых стереотипов мышления: а) группа имиджевых стереотипов, представляющих в благоприятном свете субъект манипулятора и условия его бытия; б) группа стереотипов условий бытия субъекта манипулируемого; в) группа стереотипов действий субъекта манипулируемого, направленных на устранение условий бытия субъекта манипулируемого и установление условий, благоприятных для субъекта манипулятора. Стереотипы мышления внедряются в массовое сознание при помощи определенных способов и приемов, утверждаются в сознании на основе чувственных и рассудочных форм отражения действительности. К числу распространенных видов манипулятивного воздействия относится конструирование мифов. Наделение ситуаций и лиц мифологическими чертами усиливает влияние на область бессознательного и в результате – на массовое сознание и поведение. Социальные мифы связаны со стереотипами. Использование стереотипов и мифов в интересах информационно-психологического воздействия является одним из важных аспектов, имеющих отношение к проблеме конструирования социальной реальности. Социальные мифы – это преувеличенные или искаженные представления о действительности, внедряемые в общественное сознание с целью формирования нужных реакций1.
При этом сам образ власти выступает как симулятивная реаль- ность. В философской литературе обращается внимание на то, что образ (имидж) как символическая репрезентация формируется в массовом сознании путем соотнесения представлений о носителе имиджа с его идеальным видением. Имиджи – это цель и одновременно инструмент управления общественными умонастроениями. Такое управление осуществляется путем вбрасывания в публичную дискуссию определенного набора представлений о том или ином субъекте процесса. Имиджи как рукотворная и восприимчивая к внешнему воздействию ипостась образов, представляющих субъекты политического процесса, становятся самым ходовым товаром. «Рукотворная реальность» имиджа формируется в процессе взаимодействия объектов – потенциальных носителей его характеристик, творцов – создателей, а также аудитории – адресатов имиджевого «послания».
Особенности современной культурной ситуации, изменения в образе жизни ведущих развитых стран – новые формы социальной организации и коммуникационных процессов, деиндустриализация общества, развитие непроизводственной сферы, отрицание жестких ролевых установок, статусный релятивизм и многие другие явления – вызваны сложностями и противоречиями становления и развития постиндустриальной цивилизации. В этих условиях происходит распространение различных образцов массовой культуры, расширение полисубъектности коммуникативной среды, изменение содержания и направленности коммуникативного взаимодействия. Если ранее коммуникационные процессы носили упорядоченный характер и опирались на формируемые веками традиции, то в современной жизни они приобрели черты быстротечных и фрагментарных явлений, опосредованных огромным количеством высокотехнологичных коммуникационных посредников: СМИ, сотовая связь, Интернет, всевозможные компьютерные системы1.
В обществе важную функцию социальной мобилизации приобретает историческое сознание. Эмоционально нагруженные представления об исторических фактах, событиях, выдающихся деятелях, героях и антигероях играют роль ценностных ориентиров, определяющих оценку современной действительности. Недаром философ П.Г. Щедровицкий исходит из того, что в обществе как «рефлексивной полисистеме» идеи и представления, которыми пользуются люди для осмысления своего прошлого и проектирования будущего, более реальны, чем фактическое положение дел. «Представления есть реальность, а знания суть идеи-силы, влияющие на способы самоопределения и взаимодействия людей. В конечном счете, именно технологии мышления и понимания человеком самого себя (своего места в мире) и закрепляющие их идеологии, получившие массовое распространение, становятся ведущим фактором исторического взлета и падения обществ и государств»2.
Процесс воздействия «вызова современности», взрывающий привычный ход социальной жизни, демонстрирует в одинаковой степени и новые навыки, и старые рефлексы, и готовность к будущему, и невозможность вырваться из тисков прошлого, подчеркивая непрерывную связь, взаимное проникновение событий прошлого, настоящего и будущего. Естественное стремление людей сохранить привычные, освященные в далекой и более близкой истории представления об устройстве общества и о своем месте в нем, переоценка общественнополитических реалий современности, поиск точки отсчета, где рождается новый будущий мир, находят отражение в символах и метафорах, которыми мы живем.
История становится одним из значимых инструментов политики и идеологии. Описание прошлого, связанное с коллективной памятью, дает важные характеристики политического дискурса, поскольку коллективная память воздействует на жизнь, по крайней мере, двумя путями: 1) дает модель общества как отражения потребностей, проблем, страхов, менталитета и ожиданий и 2) предлагает модель общества как программу, определяет общественный опыт, артикулирует ценности, цели, когнитивные, аффективные и моральные ориентиры для реализации данной программы. В этом отношении прошлое выступает как некоторая превращенная форма настоящего1.
Исторические факты свидетельствуют, что в периоды радикальных общественных изменений у властных элит всегда возникает потребность в создании новых официальных моделей исторического прошлого, поскольку апелляция к историческому прошлому служит важным легитимационным фактором новых политических институтов.
В. Середа проводит анализ тематического содержания речей В. Путина в бытность его президентом, обращая внимание на то, как он пытается инкорпорировать старые советские исторические мифы и практики почитания прошлого в новую модель репрезентации российской истории. Абсолютное большинство (две трети) исторических событий, артикулируемых в официальном дискурсе В. Путина, приходится именно на советский период, остальные поровну делятся между досоветской и современной российской историей. Кроме приветствий, непосредственно посвященных тому или иному историческому событию или личности, В. Путин также использует ссылки на разные исторические факты и события в своих речах для интерпретации или легитимации широкого спектра явлений внутренней и внешней политики России2.
В ходе развернувшейся в России социальной трансформации конструируемое историческое прошлое остается неустойчивым. В обществе отсутствует согласие относительно желательного будущего страны, отсюда и неутихающая полемика об историческом прошлом. В результате формируется исторический нарратив власти, обусловленный ее политическими претензиями и идеологическими мотивациями. В зависимости от политического устройства вычленяются конкретные блоки исторической памяти, необходимые для формирования определенной идеологической модели. Обращение к прошлому становится одним из источников легитимации политических предпочтений. Происходит инструментализация прошлого ради конкретных политических целей.
Значимую роль в манипулировании массовым сознанием играет «героическое прошлое». Героизация и сакрализация важного исторического события, которое фиксируется как элемент модели исторического прошлого, пропагандируемой официальным дискурсом («опорная точка нашей великой истории», знание и память о которой обусловливают «бессмертие и величие Родины»), делает невозможной репрезентацию другого прочтения прошлого или попытку его рационального переосмысления3.
В. Середа обращает внимание на то, что события войны и топос Победы выступают не только как символический центр, вокруг которого структурируется, объясняется историческое прошлое, но и как точка отсчета («наше духовное богатство и духовный маяк»), через которую легитимируются идентичности, в частности национальная («В крови, в традициях нашего народа, народов России всегда была особая любовь к Родине, готовность к ее защите, к самопожертвованию, если нужно»; «Мы отмечаем День Победы как день нашей национальной памяти и национальной гордости») и гендерная роли («И потому быть хорошим воином – это еще и быть настоящим мужчиной. Надо поклониться российским матерям, которые воспитывают солдат и настоящих мужчин»; «Сегодня, 8 марта, мы, конечно, прежде всего, должны вспомнить о тех женщинах, которые принимали активное участие в Великой Отечественной войне. Это матери, которые воспитали своих детей и сделали из них защитников России, настоящих защитников России»).
Б. Дубин пишет о том, что население России, российские власти всех уровней, средства массовой информации в центре и «на местах», наконец, интеллектуальное сообщество страны – все придавали празднованию 9 мая 2005 г. особое значение. 86% жителей России назвали День Победы наиболее важной датой предстоящего года. Общее сознание, что ветераны войны отмечают такую круглую дату, вероятно, в последний раз, усилило смысловой заряд праздника. Официальные медиа – в соответствии с поставленными задачами патриотического воспитания – подхватили этот мотив и подчеркнули в нем тему связи и преемственности поколений. Поэтика торжеств выглядела вполне узнаваемой, восходя к рутинным юбилейным концертам советской эпохи с поправками на стереотипы массовых сцен в американских блокбастерах.
Празднование юбилея Победы в 2005 г. в очередной раз наводит на мысль о повторении некоторой базисной, модельной структуры. Она определяет коллективное поведение, действия элит и шаги власти в России, задает их согласованное понимание себя, настоящего и прошлого. Б. Дубин выделяет составные части этой структуры и логический порядок ее конструирования, что наводит на мысль о значимости имитационных стратегий в жизни общества1.
В результате распространения симуля-тивных образов в современном российском обществе усиливаются процессы бегства людей от реальности во внешне привлекательные, носящие гедонистический характер, но обладающие духовной неподлинностью «миры», возникшие из симулякров. Сами культурные ценности в эпоху постмодерна трансформируются до такой степени, что симулякры становятся значимее, чем традиционные ментальные аксиологические ориентиры общества и социальная реальность. В настоящее время симулятивные образы являются не только отвлеченным умозрительным понятием – они становятся и распространенным эмпирическим явлением. Симулякр вторгается в предметный мир, в объективную реальность, пронизывая все сферы современных общественных отношений, значительно изменяя их. Тиражирование симулякров приводит к тому, что политика не сосредоточена более в политике, она затрагивает и кардинально изменяет все сферы: экономику, науку, искусство. Тем самым она становится «трансполитикой, трансэстетикой, транссексуальностью, трансрелигией, трансэкономикой». Причем подобные утверждения справедливы для всей социальной структуры общественных отношений в России2.
В процессах виртуализации массового сознания происходит формирование идеальных образов действительности, конструирующих, имитирующих и замещающих саму реальность и выступающих в формах виртуальности возможного. При этом распространение симулятивных образов имеет ряд возможных последствий, среди которых следует назвать эскапизм (стремление человека уйти от действительности в вымышленный мир иллюзий) , шизо-френизацию (расщепление сознания субъекта, когда он сращивается с симулякром, что приводит к появлению шизофренической личности, для которой свойствен эффект двойного присутствия) и консьюмеризм (идея о возможности достижения социального превосходства, счастья через потребление, зависимость от вещей, которые становятся символом причастности к некой обще ственной группе).