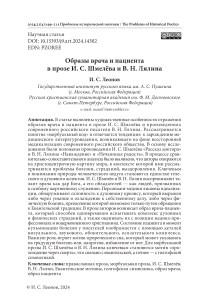Образы врача и пациента в прозе И. С. Шмелёва и В. Н. Лялина
Автор: Леонов И.С.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье выявлены художественные особенности отражения образов врача и пациента в прозе И. С. Шмелёва и произведениях современного российского писателя В. Н. Лялина. Рассматривается понятие «морбуальный код» и отмечается тенденция к зарождению медицинского литературоведения, возникающего на фоне всесторонней медикализации современного российского общества. В основу исследования были положены произведения И. С. Шмелёва «Рассказ доктора» и В. Н. Лялина «Наваждение» и «Нечаянная радость». В процессе сравнительно-сопоставительного анализа было выявлено, что авторы опираются на христоцентричную картину мира, в контексте которой ими рассматриваются проблемы болезни, страданий, выздоровления. Ключевым в понимании природы человеческого недуга становится единство телесного и духовного аспектов. И. С. Шмелёв и В. Н. Лялин воспринимают талант врача как дар Бога, а его обладателей - как людей, призванных к особому жертвенному служению. Персонажи-медики лишены идеализации, обнаруживают склонность к духовному кризису, который выражен либо через уныние и охлаждение к собственному делу, либо через физическую болезнь, преодоление которой возможно только путем обращения к Евангельской традиции. В прозе авторов возникает образ врача-пациента, который способен одновременно испытывать комплекс духовных и физических страданий, а также оценивать их с позиции медика-профессионала и воцерковленного христианина. Состояние пациента в момент кульминации болезни у писателей изображается с помощью деталей визуального, звукового, обонятельного, осязательного комплекса. Важную роль играет мотив пророческого сна, который может указывать на грядущую болезнь или, напротив, избавление от нее. Для морбуальной прозы И. С. Шмелёва и В. Н. Лялина ключевым становится мотив «прохождение через смерть», что связано с евангельской, а точнее - с голгофской символикой.
Православная проза, морбуальная проза, и. с. шмелёв, в. н. лялин, евангельские мотивы, голгофская символика, образ врача, образ пациента
Короткий адрес: https://sciup.org/147244783
IDR: 147244783 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.14302
Текст научной статьи Образы врача и пациента в прозе И. С. Шмелёва и В. Н. Лялина
В современном литературоведении внимание ряда ученых обращено к феномену «морбуального кода». По мнению Е. Г. Трубецковой, «"морбуальный" (от лат. morbus — болезнь) является своего рода "антонимом" по отношению к "медицинскому" ("врачующему болезнь"). Обозначение "морбуальный" представляется более удачным, так как включает в себя не только проблематику, в той или иной мере обусловленную взаимодействием врача и пациента, но и отношение к болезни самого больного, изменение его мировосприятия, поведения и связанных с этим философских и нравственных вопросов» [Трубецкова: 48].
Морбуальная тема в русской литературе значима в контексте идей этнопоэтики, которая «должна изучать национальное своеобразие конкретных литератур, их место в мировом художественном процессе» [Захаров, 1994: 9]. В. Н. Захаров отмечает, что для понимания национального своеобразия русской литературы необходимо обращение к православию. По мысли ученого, с точки зрения этнопоэтики приобретают актуальность категории, «которые выражают сущность явлений: Россия, Бог, Христос, жизнь, бытие, человек, общечеловек, всечеловек, родина, народ, природа, истина, свобода, воля, совесть, правда…» [Захаров, 2020: 12]. В этом же ключе можно говорить о смысле болезни, страданий, смерти и исцелении.
Христианское понимание соотношения духовного и физического состояния человека как применительно к болезни, так и в более широком смысле, отмечается в трудах богословов и филологов. О тесной взаимосвязи духовного и физического облика человека писал архиепископ Лука (Войно-Ясе-нецкий): «Велико и глубоко важно соотношение между духом и формой. В материальных формах ярко отражается дух, присущий материи. И больше того, дух творит формы» [Лука: 79]. Преподобный Феофан Затворник размышлял о духовных основах телесных недугов: «Посылает Бог иное в наказание, как эпитимию, иное в образумление, чтоб опомнился человек; иное, чтоб избавить от беды, в которую попал бы человек, если бы был здоров; иное, чтоб терпение показал человек и тем большую заслужил награду; иное, чтобы очистить от какой страсти, и для многих других причин» [Болезнь и смерть: 21].
Следует признать, что мысль о соотношении болезней телесных и духовных находит отражение и у современных исследователей-литературоведов: «При анализе морбуального кода важнейшими субкодами становятся соматический и духовный. Не случайно в древних культурах и религиях представлено понимание телесной немощи как духовной ущербности или, наоборот, избранности, а телесного здоровья — как совершенства духовного» [Трубецкова: 49].
На глубокую связь поэтики И. С. Шмелёва с христианской традицией справедливо указывает И. А. Есаулов: «От произведений 1910-х гг., продолжающих, условно говоря, "демократическую" линию русской литературы, Шмелёв переходит к мироощущению, которое можно назвать торжествующим христоцент-ризмом» [Есаулов: 18]. Ученый отмечает, что используемое в финале произведения «Лето Господне» местоимение «мы» задает «особый — пасхальный — "горизонт ожидания" его читателю…» [Есаулов: 20].
Герой произведения И. С. Шмелёва «Рассказ доктора» врач Николай Васильевич является примером истинного христианского подвижника, готового положить свою жизнь за ближнего.
Первое, что обращает на себя внимание, это портретная характеристика доктора, основанная на контрасте внешнего и внутреннего облика:
«С виду это был угрюмый, замкнутый в себе человек, немножко даже грубоватый: но в его глазах было что-то такое, что располагало к нему с первого взгляда. Между прочим, его очень любили дети, а этот народ, как известно, очень чуткий»1.
Образ врача дополняется сведениями о том, что он человек несемейный, посвятивший жизнь служению людям. Возникает мотив врача-аскета, чей подвиг отчасти близок монашескому, при котором служение Богу и людям ставится на первое место, а собственные интересы уходят на второй план:
«Для него было самым обыкновенным в два-три часа ночи, в любое время года, сесть в тарантас или в сани и катить на земских верст за двадцать, кто бы его ни позвал, раз было нужно. Он не откладывал до утра, как это чаще всего бывает» ( Шмелёв : 60).
При этом образ доктора лишен идеализации. Читатель узнает, что на определенном этапе он переживает внутренний и профессиональный кризис, некоторое охлаждение по отношению к данному Богом служению:
«И напала на меня хандра, усталость, что ли… И весь пыл мой пропал» ( Шмелёв : 65).
В этом ключе Николай Васильевич отчасти напоминает чеховских персонажей-врачей, которые испытывают состояние внутреннего опустошения: Старцев, Астров, Чебутыкин и др. Глубокий анализ образов чеховских докторов представлен в работах С. А. Кибальника [Кибальник] и А. В. Кубасова [Кубасов]. Важно отметить, что в исследовании А. В. Кубасова рассматриваются популярные в эпоху рубежа веков идеи о «нервном веке», а также всеобщем утомлении и вырождении: «Утомление и вырождение в восприятии Чехова предстают как явления антиномичные, имеющие логически равноправное обоснование, заслуживающие как серьезного отношения, так и иронического» [Кубасов: 217]. Возможно, что эти идеи отчасти повлияли и на героев И. С. Шмелёва, при этом в сознании автора они могли соотноситься с представлениями об унынии, т. е. с одним из смертных грехов, духовным недугом.
Преодолению кризиса во многом способствует встреча доктора с народным лекарем-травником дедом Антоном, который живет на севере уезда в особо плодородном и радостном месте, напоминающем доктору рай. В данном контексте мотив тихого света, который является знаковым для христианской культуры, становится ключевым:
«И вот, кончился лес, и видим мы картину необыкновенную. Прямо перед нами простор открылся. Даль и даль. От леса, где мы стояли, легким отлогом, куда ни поглядишь, лежали в тихом свете западающего солнца поля спеющего хлеба. Золотистые, необъятные поля… И, знаете, таким медовым теплом пахнуло на нас, точно стоят в золотом просторе невидимые пекарни и оттуда потягивает этаким, знаете, густым и медовым жаром…» ( Шмелёв : 66).
Однако полное преодоление кризиса связано с серьезным испытанием, выпавшим на долю врача. Доктор возвращается в полюбившееся ему место в период жестокой эпидемии с осознанием того, что опоздал, не приехал вовремя и тем самым стал невольным виновником смерти трех малолетних внуков деда Антона.
Внутренний кризис доктора подчеркивается через измененный пейзаж некогда райского места:
«Да, были все те же поля. Но я не узнал их. Осенью, а погода была ужасная… дожди, дожди, поля плакали… Туманно, в мутной сетке <…>. Тихо, тихо было там. Там молчали, там забились в щели и замерли» ( Шмелёв : 77).
На первый план здесь выходят мотивы тишины, тоски, плача. Преодоление кризиса также подчеркивается через сюжетный ход: врач сам становится пациентом. Пытаясь спасти жителей пораженного эпидемией села, Николай Васильевич заболевает тифом и в течение некоторого времени пребывает без сознания. Его выздоровление происходит благодаря заботе деда Антона, который в произведении представлен не только как опытный травник, но и народный праведник, для которого основным является молитва:
«…И на каждом слове у деда был Господь. И Никешка так смотрел на него и его травы, что, казалось, думал, что и в избушке деда сам Господь. Да, в глазах старика было так много тихого света и доброты, что, казалось в нем пребывает Господь» ( Шмелёв : 71).
Подобное свидетельствует о том, что картина мира в произведениях Шмелева носит христоцентричный характер: Христос ежеминутно присутствует в жизни человека, включая бытовую сферу его существования.
Очевидно, что болезнь в рассказе Шмелёва воспринимается в единстве духовных и телесных явлений, а подлинное врачевание — это одновременное врачевание духа и тела, невозможное без обращения к Создателю и нравственного перерождения человеческой личности.
Близка трактовка темы болезни и образа врача в произведениях В. Н. Лялина. В рассказе «Серебряный крест» упоминается преподобный старец Тихон, к которому «ходили за советом и за утешением, а некоторые за исцелением болезней, которые он лечил травами, молитвой и освященным елеем» 2 .
Персонаж рассказа В. Н. Лялина «Наваждение» — тридцатилетний тяжело больной Семен, принявший крещение с именем Серафим. Разочаровавшись в официальной медицине, по совету знакомого священника он едет на Алтай, пытается восстановить здоровье с помощью народной медицины, а также приходит к вере и воцерковлению.
Автор — врач по профессии — детально описывает комплекс физических и психологических страданий, которые испытывает молодой человек, включая такие симптомы, как слабость, головокружение, температура, одышка. Рассказчик, словно пытаясь заглянуть внутрь своего организма, делает вывод о состоянии кровеносной системы, прибегая при этом к характерному бытовому сравнению:
«…потому что кровь моя сделалась жиденькой, как розовый сиропчик» ( Лялин : 188–189).
Психологическое состояние пациента характеризуется постоянными мыслями о смерти, которые на время отступали лишь после чтения Евангелия и молитв:
«Когда я весь в поту просыпался утром, то первое слово, которое возникало у меня в мозгу, было — смерть, и дрожь охватывала все мое существо» ( Лялин : 189).
Мотив смерти в произведении тесно связан с мотивом сна:
«Данилушка, мне все сон снится, что я уже в могиле лежу. Холодно там, темно и сыро» ( Лялин : 191).
Мотивный комплекс сон/смерть важен и для морбуальной прозы И. С. Шмелёва. Так, в произведении «Рассказ доктора» главный герой видит пророческий сон о грядущем бедствии, а в дальнейшем визуальные и звуковые детали этого сновидения повторяются в его сознании во время беспамятства в период болезни. В этом ключе следует упомянуть и рассказ того же автора «Милость преподобного Серафима Саровского», в котором знамение о скором исцелении приходит к пациенту во время сна.
В «Наваждении» В. Н. Лялина изображен алтайский лекарь Данилушка. Портрет героя содержит важную деталь:
«Поверх рубашки на сыромятном ремешке красовался средних размеров медный крест с распятием» ( Лялин : 191).
В ответ на слова гостя о страхе перед смертью, которая кажется ему неминуемой, травник призывает творить Иисусову молитву и не терять надежду на милосердие Творца:
«Крепись, Серафим, крепись. Уж я с Божией помощью постараюсь тебе помочь» ( Лялин : 191).
Таким образом, автор подчеркивает, что подлинным целителем является Бог, а лекарством — покаяние и молитва. Народные средства (травяные отвары, мумие, медвежья печень) способствуют лишь временному поддержанию физических сил.
О первых, едва заметных признаках улучшения физического и духовного состояния Серафима свидетельствует появившаяся в нем способность воспринимать окружающую его природу. Обнаруживается параллель с «Рассказом доктора»
И. С. Шмелёва, в котором блуждающий по лесу Николай Васильевич выходит на залитые светом вечернего солнца поля и чувствует освобождение от тоски и разочарования. Природа в рассказах воспринимается как особый мир, наполненный Божественной благодатью, способной исцелять физические и духовные недуги. Важно отметить, что в природном пространстве, одухотворенном Божественным присутствием, совершается лечение Серафима: он принимает двенадцать ванн в лесной купели, «около которой стоял большой, потемневший от времени дубовый крест» ( Лялин : 193).
Включение голгофской символики в данном случае представляется неслучайным. На первый план выходят мотивы смерти и воскресения ( «В этой купели такая вода, что живой в ней умирает, а мертвый воскресает» ( Лялин : 193) ) . Здесь же символически показана смерть Серафима (согласно физическим законам — потеря сознания), как преодоление им границы времени и вечности, обнаружение себя в Небесном Царстве:
«Внезапно я перестал ощущать свое тело, перед глазами возникли цветы и бабочки, потом появились хрустальные кресты и прозрачные белые Ангелы, поющие "Слава в вышних Богу и на Земле мир…"» ( Лялин : 193).
Подобный мотив «прохождение через смерть» сближает «Рассказ доктора» И. С. Шмелёва и «Наваждение» В. Н. Лялина. Сознание Николая Васильевича, оказавшегося в беспамятстве, т. е. в символическом пространстве смерти, наполняется визуальными природными образами, которые, в отличие от реакции героя рассказа Лялина, оказывают пугающее воздействие на доктора-пациента:
«Я уже не мог подняться. Помню только пучок желтых, ярких желтых цветов над головой. Они качались и резали глаза… колосья, сухие, огромные шумящие сухие колосья» ( Шмелёв : 80).
Мрачный эффект усиливается благодаря включению в текст звуковых и обонятельных мотивов:
«Они жужжали в уши, гремели, путали… Они шептали: "Бари-нок, баринок…". Звали меня эти ужасные колосья. И сладкий, приторный, низкий запах печеного хлеба заливал меня и томил, томил» ( Шмелёв : 80).
Подобные образы возникают и во время пророческого сна доктора, который был явлен ему задолго до трагических событий, связанных с эпидемией.
Возвращаясь к рассказу В. Н. Лялина «Наваждение», следует добавить, что, по мысли автора, подлинным залогом физического исцеления человека становится его покаяние, обращение ко Христу. Это подчеркивается на метафизическом и пространственном уровнях: Серафим оказывается в православной обители, принимает таинства покаяния и причащения. При этом он чувствует как физическое, так и внутреннее обновление:
«Когда он (священник. — И. Л .) накрыл мою голову епитрахилью, я почувствовал, как из меня выходит темная злая сила, а после причастия тело мое стало легким, в груди трепетала несказанная радость, и я как будто обновился, как старая изъеденная шашелем икона, обновившаяся, играющая свежими сочными красками на радость и удивление православным» ( Лялин : 196).
Рассказ В. Н. Лялина «Наваждение» тесно связан с его же произведением «Нечаянная радость», которое имеет автобиографическую основу. Их сближает понимание болезни как следствия не столько физического, сколько душевного недуга, требующего помощи Бога, покаяния и духовного очищения.
Повествование ведется от имени рассказчика — молодого врача, страдающего комплексом тяжелых соматических и душевных недугов. Первые связаны с результатом неудачного медицинского эксперимента, проведенного над ним в юности, вторые — со спецификой работы патологоанатома и с ежедневной встречей со смертью, жертвами которой становятся часто молодые люди, а порой и дети.
В произведении возникает сближающий морбуальную прозу И. С. Шмелёва и В. Н. Лялина образ «врач-пациент»: специалист-медик на собственном опыте начинает испытывать страдания, а также «прохождение через смерть». Все глубже погружаясь в танатологическую атмосферу морга, рассказчик начинает ощущать, что «происходило медленное заражение смертью» (Лялин: 267). Первоначальные попытки понять свое состояние и оказать себе посильную помощь решаются в сугубо медицинском ключе:
«Я делал биохимические анализы крови, и мне давали плохие показатели работы почек» ( Лялин : 268).
Угнетенное психологическое состояние врача-пациента усугубляет обостренная жажда жизни, контраст между внутренним тягостным унынием и наблюдением за цветущей природой Крымского полуострова, которая становится своеобразным символом возрождающейся жизни:
«А жизнь была так прекрасна, а крымская весна так блистательна и волшебна, когда все цвело, благоухало и жужжало под ярким ослепительным солнцем» ( Лялин : 268).
Мотивы яркой, одухотворенной Божественным присутствием природы, контрастирующей с состоянием внутреннего упадка страдающего физическими недугами человека, являются общими для прозы И. С. Шмелёва («Рассказ доктора») и В. Н. Лялина («Наваждение», «Нечаянная радость»). Кроме того, произведения авторов сближает и мотив горячей молитвы к Богу об исцелении. Здесь стоит упомянуть произведение И. С. Шмелёва «Милость преподобного Серафима Саровского», в котором рассказчик обращает к святому следующие слова:
«Ты, святой, преподобный Серафим… можешь!… Верую, что ты… можешь!..» ( Шмелёв : 135).
Надежда на исцеление звучит в молитве Серафима в рассказе «Наваждение»: «Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, я болен и болен смертельно, но верю, что эта болезнь не будет мне к смерти» ( Лялин : 194).
Хронотоп произведения «Нечаянная радость» делится на два строго очерченных полюса: первый представляет собой локус смерти — морг, в котором работает рассказчик; второй — христоцентричное храмовое пространство, связанное с категориями «исцеление», «жизнь», «бессмертие». В нем пациент-врач встречает профессора медицины святителя Луку (Войно-Ясенецкого), который оказывает ему как профессиональную врачебную, так и молитвенную помощь. Непродолжительное общение архиепископа и молодого врача включало как элементы медицинского обследования (выслушал сердце, проверил пульс, «поколотил кулаком по пояснице» (Лялин: 269)), так и чисто отеческое утешение (вытер слезы). Кульминационным моментом здесь становится молитва святителя:
«Старец поднялся с кресла и подошел к иконам. Молился он минут десять, вздыхая и что-то неразборчиво говоря» ( Лялин : 269).
На первый план в данном контексте выходят мотивы умиротворяющей тишины, молчания. Храмовое пространство, в которое рассказчик попадает после встречи с владыкой, также наполнено образами звуковой, осязательной и световой символики:
«…никакие звуки не нарушали тишину, стоял прохладный полумрак, освещаемый только лампадками и свечами…» ( Лялин : 269).
Происходит духовное исцеление персонажа, его окончательный переход из мира смерти, связанного с унынием и состоянием безысходности, в христоцентричное пространство Православной Церкви.
Подводя итоги рассмотрению образов врача и пациента в морбуальной прозе И. С. Шмелёва и В. Н. Лялина, следует выделить ряд ключевых параметров. В творчестве обоих авторов находит отражение христоцентричная картина мира. В этом ключе ими рассматриваются проблемы болезни, страданий, выздоровления. Значимым в понимании природы человеческого недуга становится единство телесного и духовного аспектов. Таким образом, больной нуждается не столько в помощи профессионального медика или даже народного лекаря, сколько в глубинном внутреннем осознании собственной греховности и осуществлении попытки выстроить свою жизнь по законам евангельских ценностей.
Авторы рассматривают талант врача (профессионального и народного) как особый дар от Бога, а обладателей этого дара — как людей, призванных к особому жертвенному служению ближнему, что соответствует ключевым параметрам христианской аксиологии.
Очевидно, высокое призвание доктора не исключает наличие в нем склонности к духовному кризису, который выражен через уныние, вызванное либо усталостью и потерей интереса к профессии, либо физической болезнью, преодоление которой возможно только через обращение к Богу, полное принятие Его воли. Иначе говоря, в творчестве авторов возникает образ врача-пациента, который при полном понимании своего физического состояния не может помочь себе самостоятельно, а нуждается в помощи Создателя, часто приходящей через Его служителей — священников, монахов, народных лекарей-праведников.
Состояние пациента в момент кульминации болезни изображается с помощью комплекса визуальных, звуковых, обонятельных, осязательных деталей. Важную роль играет мотив пророческого сна, который может указывать на грядущую болезнь или, напротив, избавление от нее.
Ключевым мотивом для морбуальной прозы И. С. Шмелёва и В. Н. Лялина становится мотив «прохождения через смерть», что связано с евангельской, а точнее — с голгофской символикой. И Николай Васильевич из «Рассказа доктора», и Серафим из произведения «Наваждение» так или иначе оказываются на границе времени и вечности, после прохождения которой им открывается путь к исцелению. Не так явно с физиологической точки зрения, но очевидно с духовной — эту границу преодолевает молодой врач из «Нечаянной радости» В. Н. Лялина.
Важную роль в произведениях обоих авторов играют природные мотивы. Наполненный Божественной благодатью вечерний пейзаж (мотив «свете тихий») способствует внутреннему преображению доктора Николая Васильевича. Первым признаком выздоровления Серафима становится глубокое внутреннее переживание им красоты алтайской природы. Весенние крымские пейзажи наполняют сердце молодого доктора из «Нечаянной радости» грустью и молитвенным созерцанием, что через время приводит его в келью архиепископа Луки, где он получает подлинное утешение, ставшее началом избавления от телесных и духовных недугов.
Список литературы Образы врача и пациента в прозе И. С. Шмелёва и В. Н. Лялина
- Болезнь и смерть: по трудам святителя Феофана Затворника. М.: Сибирская благозвонница, 2018. 92 с.
- Есаулов И. А. Поэтика русского мiра Ивана Шмелёва // Проблемы исторической поэтики. 2023. Т. 21. № 2. С. 7-37 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1687187573.pdf (29.06.2024). DOI: 10.15393/j9.art.2023.12442 EDN: GORZCK
- Захаров В. Н. Русская литература и христианство // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. Вып. 3. С. 5-11 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2370 (29.06.2024). EDN: RUYJPT
- Захаров В. Н. Идея этнопоэтики в современных исследованиях // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 3. С. 7-19 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1593805089.pdf (08.06.2024). DOI: 10.15393/j9.art.2020.8382 EDN: IFROFH
- Кибальник С. А. Два доктора: Осип Дымов и Шарль Бовари (интертекстуальная структура рассказа Чехова "Попрыгунья") // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 3. С. 187-205 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1633680464.pdf (22.06.2024). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9922 EDN: GODQTO
- Кубасов А. В. Идея "вырождения" в поэтике и криптопоэтике А. П. Чехова // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 3. С. 206-221 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1633672884.pdf (22.06.2024). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9682 EDN: GZXUWT
- Лука (Войно-Ясенецкий), свят. Дух, душа и тело: жизнеописание, акафист, канон. М.: Летопись, 2023. 304 с.
- Трубецкова Е. Г. К вопросу о морбуальном коде русской литературы // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 467. С. 47-54. DOI: 10.17223/15617793/467/6 EDN: FTFYRM