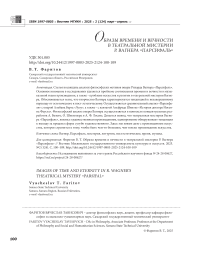Образы времени и вечности в театральной мистерии Р. Вагнера «Парсифаль»
Автор: Фаритов В.Т.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Художественная культура
Статья в выпуске: 2 (124), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу философских мотивов оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль». Основное внимание в исследовании уделяется проблеме соотношения времени и вечности в музыкальной ткани произведения, а также – проблеме искусства и религии в театральной мистерии Вагнера. Обосновывается тезис, что творчество Вагнера характеризуется тенденцией к незавершенному переходу от эстетического к пост-эстетическому. Осуществляется сравнительный анализ «Парсифаля» с оперой Альбана Берга «Лулу», а также – с кантатой Альфреда Шнитке «История доктора Иоганна Фауста». Философский анализ оперы Вагнера осуществляется в контексте концептуальных разработок А. Белого, О. Шпенглера и А. Ф. Лосева. Делается вывод, что театральная мистерия Вагнера «Парсифаль», являясь художественным произведением, одновременно обнаруживает тенденции к выходу за пределы сферы сугубо художественного. Здесь мы имеем дело с произведением искусства, которое стремится к тому, чтобы быть чем‑то большим, чем только произведение искусства.
Вагнер, Парсифаль, мистерия, литургия, постэстетическое, время, музыка
Короткий адрес: https://sciup.org/144163445
IDR: 144163445 | УДК: 301.085 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-2124-100-109
Текст научной статьи Образы времени и вечности в театральной мистерии Р. Вагнера «Парсифаль»
Acknowledgements: The research was carried out at the expense of the grant of the Russian Science Foundation No. 24-28-00627,
Фигура Рихарда Вагнера занимает особое положение не только в истории музыки, но и в истории культуры. С именем Вагнера неизменно связаны представления о кризисе западного искусства и западного мира. Так, согласно А. Ф. Лосеву, «наиболее существенным для Вагнера является то, что он в большей мере, чем все другие представители искусства XIX, был охвачен предчувствием катастрофы старого мира» [9, с. 283]. В представлении философов, теоретиков культуры и искусства имя Вагнера связывается с завершением и упадком великой европейской музыки. В свою очередь, упадок европейской музыки является следствием и симптомом заката самой европейской культуры. В этом аспекте Вагнера противопоставляют Баху: «в звучаниях Вагнера – все, что угодно, но только не музыка в прежнем, усвоенном смысле; от Баха до Шумана – четко знакомая, близкая музыка: в Вагнере, в Листе иная какая-то музыка. Вагнер – падение музыки; но в упадении музыки, – в Вагнере весть, неуклюже пропетая весть, что смерть «музыки» в музыке – новый исход всей культуры из тьмы, из Египта: к далекой мистерии» [1, с. 254]. Аналогичную оценку места и значения Вагнера в культуре мы находим у Шпенглера: «Около 1740 г., когда все великие мастера масляной живописи умерли и Бах был в расцвете своей силы, был закончен строгий канон 4-частной сонатной фразы. Оба они знаменуют максимум формы, которого вообще возможно было достигнуть, идя от прасимволов в первом случае тела, во втором – пространства. Оба удерживают свое значение вплоть до Скопаса и Бетховена, которые находятся на границе культуры и цивилизации и уже не справляются с большим стилем, Лист и Вагнер разрушили этот стиль» [18, с. 334].
Число примеров подобных оценок можно было бы увеличить. Достаточно вспомнить Ницше, Бодлера, Т. Манна. Однако приведенных высказываний достаточно, чтобы охарактеризовать положение Вагнера как пограничное : прежняя музыка и прежняя культура приходят к своему концу, зарождается и становится что-то другое. И после Вагнера будет музыка. Будет Малер, будет Берг, будет, наконец, Шнитке. И многое другое. Но музыкальная ткань уже не будет прежней. Вопрос заключается в следующем: сохраняет ли та музыка, которая начинается с Вагнера, статус эстетического феномена или же имеет место событие падения не только определенной формы музыки, но гибель музыки как таковой, смерть эстетического как такового и переход к не-эстетическому?
Эстетическое в самом общем определении представляет собой выражение бесконечного посредством конечного через доступные чувственному восприятию образы. Эстетическое характеризуется установкой на размыкание образа в таком направлении, чтобы конченое смогло стать выражением бесконечного. Способы и характер этого размыкания могут быть различными, но цель остается одна. В свою очередь, пост-эстетическое характеризуется замыканием художественного образа исключительно на конечном. Обращенность на бесконечное отсутствует. В философской перспективе этому переходу от эстетического к пост-эстетическому соответствует событие «смерти Бога», знаменующее переход от метафизики к постметафизке.
Театральное богослужение: pro et contra
На первый взгляд, театральная мистерия Вагнера опровергает все обвинения в декадентстве. «Парсифаль» дает максимально богатый материал для прочтения в сугубо метафизическом, соответственно, эстетическом ключе. Либретто оперы буквально перегружено религиозными мотивами и символами. Однако очень быстро становится понятно, что все образы и фигуры обладают чрезвычайно расплывчатыми семантическими контурами, характеризуются неопределенностью и многозначностью. Вагнеровский «Парсифаль» в аспекте своего идейного содержания допускает множество самых разных, в том числе взаимоисключающих, истолкований. Возможны разнообразные теологические и мифологические интерпретации и одновременно – фрейдистские и неофрейдистские и даже национал-социалистические прочтения.
Проблема, однако, не в этом. Многозначность толкования является неотъемлемой чертой любого крупного произведения искусства. Камнем преткновения в «Парсифа-ле» стал религиозный, христианский, а, еще точнее, литургический аспект его содержания. На театральной сцене Вагнер представил самый сакральный момент христианско- го богослужения – таинство евхаристии. Вот здесь мнения и оценки разделились вплоть до образования диаметрально противоположных, взаимоисключающих позиций. Одни констатировали в театральной мистерии Вагнера эстетическую фальсификацию подлинной веры, отмечая заведомую непод-линность «оперного христианства»: «Вагнер, недавний певец язычества, вдруг обратился в своем творчестве к церковному обряду» [12, с. 448]. Другие делали акцент на том, что, попадая в контекст художественного произведения, элементы религиозного культа неизбежно утрачивают свою богослужебную направленность, превращаясь в сугубо эстетический феномен: «Хотя материал сохраняет свою духовную сущность, он теряет всякий контакт с соответствующими ритуалами, такими как католическая месса или протестантское причастие» [5, с. 369]. С другой стороны, были и те, кто находил в опере Вагнера самое что ни на есть подлинное христианство: «Р. Вагнер использовал сюжет Вольфрама фон Эшенбаха, но отнес действие драмы ко времени возникновения сказания о Парсифале, когда восточная и западная ветви христианства были едины. Поэтому в «Парсифале» таинство причастия в братстве Грааля совершается так, как это было в неразделенной Церкви и как это происходит сегодня в Православной Церкви» [14, с. 175–176].
Важно учитывать, что здесь мы имеем дело не просто с противоположными интерпретациями – как уже отмечалось, для художественного текста такое явление скорее правило, чем исключение. В случае Вагнера поляризация трактовок приобретает более масштабный характер. Под вопрос ставится либо художественная, эстетическая сторона произведения, либо богослужебный аспект его содержания. Одно исключает другое. Либо «Парсифаль» признается сугубо театральным произведением искусства, собственно, оперой, и тогда литургические элементы рассматриваются лишь как структурные компоненты ткани художественного текста. Либо центр тяжести переносится на христианскую мистерию, и тогда эстетическая сторона произведения должна отойти на второй план, уступив место сакральному действию. Сложность «Парсифаля» состоит в том, что сам Вагнер не оставил четких указаний, к какому именно полюсу следует склоняться, предоставив слушателям и интерпретаторам самим решать, что тут к чему.
В итоге сторонники сакрализации искусства приходят к вполне обоснованному заключению о невозможности воплощения последней оперы Вагнера на театральной сцене: «При чтении текста «Парсифаля» возникает вопрос: можно ли вообще ставить на театральной сцене подобные вещи? Ведь Р. Вагнер ввел в текст драмы литургические формулы из евхаристического канона церковной службы, которые не могут быть использованы в драме, иначе она из драмы превращается в мистерию и, следовательно, не может быть поставлена в театре, ибо зрелищное представление будет уже кощунством. Мистерию «Парсифаль» мы можем прослушивать, как мы прослушиваем мессы, но не можем смотреть ее как зрелище, ибо становимся соучастниками кощунства» [14, с. 186]. Вполне возможно, что «Парси-фаль» в жанровом плане тяготеет не к опере, но к распространенным в старые времена ораториям, кантатам и пассионам. По крайней мере, подобные допущения в исследовательской литературе встречаются: «произведение следовало бы исполнять как ораторию с немым финалом на заднем плане» [5, с. 356]. И сам Вагнер в отношении «Пар-сифаля» всерьез задумывался о невидимом театре: «не хочется даже думать о всех этих костюмах и гриме! Когда я представляю себе, что таких персонажей как Кундри надо наряжать, мне на ум сразу приходят эти ужасные маскарады. И после того, как я изобрел невидимый оркестр, хорошо было бы мне изобрести и невидимый театр!» [5, с. 356]. Проблема действительно серьезная. Театральные доспехи рыцарей Монсальвата и, в особенности, бутафорская чаша Грааля, светящаяся с помощью электронной подсветки, способны создать эффект пародии, сводящий на нет всю глубину замысла.
Поставленная Вагнером задача репрезентации божественного в его канонически-церковном аспекте не просто в музыкальном, но в театральном произведении является фактически неразрешимой проблемой. После Вагнера такие композиторы, как Г. Малер и А. Шнитке, отдавали предпочтение уже не оперному, а симфоническому жанру. Шнитке пишет симфонию-мессу, где канонический богослужебный текст на латинском языке исполняется хором и солистами, отражаясь и преломляясь в партиях оркестра. Конечно, нельзя сказать, чтобы во Второй Симфонии Шнитке все было просто и однозначно. И здесь представлен сложный и драматический диалог вечности с современностью, религии с искусством [15]. Но, по крайней мере, во время исполнения симфонии-мессы от музыкантов не требуют преклонять колени и причащаться Святых Даров, а слушатели избавлены от необходимости созерцать церковные таинства на театральной сцене. Вагнер же – вольно или невольно – вызывает у слушателей «Парсифаля» неловкое чувство туриста, который, желая осмотреть интерьер готического собора, случайно оказался на богослужении. Принять участие в этом богослужении он не может, но и оставаться в положении любопытствующего наблюдателя не очень хорошо. Единственно верным решением в данной ситуации будет – незаметно удалиться, а для удовлетворения своих художественных интересов зайти в другое время. Опера Вагнера не оставляет слушателю столь легкого пути. Конфликт эстетического и церковного здесь может быть разрешен только через отрицание одного в пользу другого.
В этой связи обращает на себя внимание фраза Андрея Белого: «Я в церковь ходил как в театр» [3, с. 319]. Формулировка звучала бы не столь резко, если бы была представлена в таком виде: «Я в театр ходил как в церковь».
Выражение «храм искусства» является устойчивым и, как правило, не вызывает сомнения, что «храм» здесь берется в переносном, метафорическом смысле. Совсем другая ситуация, если церковное богослужение начинает восприниматься как театральное представление. И тем более, если церковное богослужение становится кульминационным моментом театрального действия. Тут уже с фатальной неизбежностью встает вопрос: имеет ли место в опере Вагнера сакрализация театрального пространства или же профанация сакрального ? Возвышается ли искусство до уровня богослужения или же происходит эстетизация и театрализация религии?
Интеллектуальный и духовный контекст эпохи, на фоне которого разворачивается творчество Вагнера, в большей степени склоняет ко второму варианту. В этом ракурсе «Парсифаль» выступает в качестве свидетельства общего упадка духовной культуры европейской цивилизации. В опере Вагнера мы «имеем дело с экзистенциальным кризисом страдающей цивилизации, оставленной Богом, но все еще желающей сохранить свою божественную душу и ищущей убежище в мистицизме и всевозможных духовных практиках» [5, с. 350]. Как представитель своего времени, Вагнер проявлял «интерес к дискуссиям в консервативных кругах, которые диагностировали кризис цивилизации и искали возможность ее исцеления» [5, с. 344].
Здесь обращает на себя внимание фигура раненого и больного короля, который не в состоянии выполнять свои священные обязанности служителя Грааля: «Особая форма бытия этого короля, который одновременно и “живет и не живет”, и чья жизнь – только видимость, оказалась связанной с историей о Граале» [7, с. 57]. Амфортас должен не только исцелиться от раны, но и уступить свое место другому. Фигура старого и больного короля, на смену которому приходит молодой, – типичный мифологический и сказочный сюжет. Однако у Вагнера здесь присоединяется и становится доминирующим мотив греха и искупления, переводящий сюжетную кол- лизию из мифического плана в религиозный. Но здесь снова встает уже заявленная проблема: возможна ли репрезентация сакрального в театральном искусстве? В. Я. Пропп в своем хрестоматийном исследовании показал, что миф, умирая, становится сказкой [13]. Не будет ли справедливым утверждение, что умирающая религия становится оперой? Подобно тому, как мифический обряд замещается сказочным нарративом, религиозный обряд становится предметом театрального представления. Здесь снова Андрей Белый верно указывает на коренное противоречие эпохи: «Театр будто бы должен стать храмом. Но для чего должен стать храмом театр, когда параллельно с театром у нас есть и храмы? В храме совершается богослужение. Там совершаются таинства. “Пусть и в театре совершаются таинства” – так говорят нам новейшие теоретики драмы. Но что понимать под таинством? И что понимать под богослужением?» [2, с. 26].
Показательна уже сама постановка вопроса: что понимать под таинством и богослужением? И не является ли забвение сакрального необходимым условием сакрализации театрального пространства? Чтобы ответить на данный вопрос, нужно вспомнить, в чем, собственно, заключается смысл религиозного таинства. Протопресвитер Александр Шмеман дает такое определение: «Прежде всего, сама Церковь есть воспоминание Христа. Природная память есть, прежде всего, “присутствие отсутствия”, ибо чем более тот, кого мы вспоминаем, “присутствует”, тем острее боль его отсутствия. Но во Христе память вновь получила силу исцелять время, разорванное грехом, смертью, ненавистью и забывчивостью. И сердцем этого богослужебного празднования, этого богослужебного сегодня является именно эта новая память, имеющая власть над временем, и она стоит в центре богослужебного празднования литургического днесь » [17, с. 133–134]. Центральным моментом церковного богослужения выступает событие исцеления разорванного грехом времени .
Пространством становится время: Verwandlungsmusik
Перед тем, как ввести Парсифаля в храм братства Грааля, Гурнеманц произносит фразу: «Du siehst, mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit». «Пространством здесь становится время». Сразу после этого высказывания исполняется Verwandlungsmusik – симфонический эпизод, название которого можно перевести как «Музыка превращения». Здесь слушатель наконец-то получает возможность отдохнуть от нудных и бесконечных речитативов Гурнеманца и погрузиться в область чистой музыки. Наряду с роскошным Вступлением Verwandlungsmusik, безусловно, является шедевром вагнеровского музыкального творчества. В опере этот музыкальный эпизод выполняет не только эстетическую, но и техническую функцию: сразу из леса Парсифаль и Гурнеманц должны попасть в храм Грааля, в связи с чем было необходимо заполнить время, требующееся для перемены декораций. Поэтому Verwandlungsmusik можно переводить и как «Музыку перемены декораций». Но возможен и другой перевод, акцентирующий литургический аспект театральной мистерии: музыка пресуществления. Данный перевод тем более оказывается оправданным, что в последующих эпизодах оперы речь как раз будет идти о таинстве евхаристии.
Почти с первых тактов музыка захватывает слушателя и уносит на недосягаемую высоту: именно в музыке Вагнеру удается достичь эффекта прорыва в трансцендентное, божественное сверхчувственное. Однако на фоне строго аскетической и утонченновозвышенной музыки Vorspiel (Вступления), перед красотой которой не устоял даже скептически настроенный в отношении «Парси-фаля» Ницше, Verwandlungsmusik производит впечатление чрезмерной экстатичности. Слишком уж «дионисийским» и страстным оказывается порыв, слишком сильным экстаз, для характеристики которого вполне подходят слова Достоевского: «Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести.
Надо перемениться физически или умереть» [6, с. 528]. Не следует забывать, что у Достоевского такое экстатическое состояние описывает «бес» Кириллов. Для достижения необходимого эффекта Вагнеру даже потребовался новый музыкальный инструмент: «В качестве лейтмотива к Храму Грааля в опере «Парси-фаль» Рихард Вагнер придумал сверхъестественный, неземной звук, который должен был воспроизводить совершенно новый инструмент. Композитор называл этот звук «Звон святого Грааля». Тема Грааля в первом и третьем акте «Парсифаля» основана на глубочайших басах, призванных вызывать священный трепет у слушателей. Мощные колокольные звуки лежат почти на недосягаемой глубине: C (до) – G1 (соль контроктавы) – A1 (ля контроктавы) – E1 (ми контроктавы)» [8].
В Третьем акте Verwandlungsmusik звучит еще раз, однако здесь экстатический и дионисийский колорит оказывается еще более усиленным. Оглушающий рев медных духовых и маршевый ритм «колоколов» создает впечатление, что здесь готовятся принять не Христа, а Вотана. Музыка в большей степени вызывает ассоциации с мировой волей Шопенгауэра, а не с Богом христианской церкви. Очевидно, что в «Парсифале» в творчестве Вагнера наметилась тенденция перехода от язычества и шопенгаурианства к христианской метафизике и эстетике. Но вопрос, насколько последовательно эта тенденция воплотилась в музыке, остается менее очевидным. Языческие мотивы «Кольца Нибелунгов» присутствуют не только во Втором акте в образах Клингзора и цветочных дев, но проступают и в тех эпизодах, которые были задуманы как христианские. По крайне мере, оба варианта Verwandlungsmusik характеризуются амбивалентностью, не позволяющей однозначно охарактеризовать данную музыку как христианскую. Если это и христианство, то слишком уж страстное, с явно ощутимыми языческими мотивами слепого рока и неумолимой судьбы.
Впрочем, в Первом акте Вагнер заставляет своих слушателей пережить подобный экстаз не десять секунд, а целых три минуты… По завершении Verwandlungsmusik происходит трансформация сценического пространства из профанного в сакральное. Хор рыцарей Грааля, готовясь к Таинству, поет: «Zum letzten Liebesmahle gerüstet Tag für Tag». Однако вопреки ожиданиям Таинство не совершается по причине раны и болезни поддавшегося искушению короля Амфортоса. Время оказывается разорвано грехом. Под угрозу поставлено само существование Церкви. Задача спасения возлагается на Парсифаля, который со своей миссией успешно справляется. Но для нас важно не столько содержание либретто, сколько вопрос о реализации поставленной задачи в музыкальной ткани произведения. Именно музыка является искусством времени по преимуществу. Удалось ли Вагнеру осуществить исцеление разорванного грехом времени средствами музыки? И что в контексте данной проблемы означает формула «пространством становится время»?
С одной стороны, в музыке Вагнеру действительно удается «сфокусировать в пространственной точке временной цикл», осуществить «развертывание вечности во времени» и показать средствами музыкального языка «рождение вне-временного из временного» [12, с. 412, 263]. Но такова вообще метафизическая природа музыки. И если уж говорить о развертывании вечности во времени, то в европейской музыке пальма первенства здесь, безусловно, принадлежит Баху. И вряд ли кто-либо во всей истории музыки сможет сказать в этой сфере новое слово. На другом полюсе располагаются эксперименты и поиски таких композиторов, как Берг и Шнитке. Здесь путь к вечному и вневременному лежит уже через разорванность и хаотическую дисгармонию временных пластов. Вагнер занимает особое место в промежутке между этими двумя полюсами, не склоняясь ни к тому, ни к другому и одновременно обнаруживая черты как того, так и другого. В «Парсифале» одновременно представлены строгая и возвышенная простота баховского хорала и тембровая и тональная неустойчивость авангардной музыки: «В противоположность и почти наперекор величественному священному фасаду, которому соответствуют изысканные, чистые тембры, располагаются эпизоды, где персонажей обволакивает хроматическая муть, порой вспыхивающая двусмысленным блеском, порой же замаскированная цветовыми сгустками, под которыми невозможно более различить ни гармонического смысла, ни секретов оркестровки» [11]. Исследователи отмечают в музыкальной ткани оперы «диффузное взаимопроникновение традиционного и прогрессивного музыкального языка. С одной стороны, хрестоматийная последовательность квинт придает верхнему тембру и следовательно всей фразе архаические черты, с другой стороны, хроматически современная и отчетливо скачкообразная гармонизация создает ощущение нестабильности» [5, с. 358, 350]. Именно посредством сложно организованной, сочетающей разнородные пласты музыкальной техники Вагнеру удается достичь эффекта сопряжения гетерогенных временных пластов. Так пространством становится время: на театральной сцене прошлое сопрягается с будущим, Бах встречается с Бергом.
Однако христианская проблема исцеления времени здесь не решается. Вагнер успешно балансирует на границе эстетического и пост-эстетического, виртуозно играя разноплановыми музыкальными техниками и стилями. Но назвать оперу однозначно христианской невозможно как раз по причине стилистической неоднородности и неоднозначности. Как художнику, Вагнеру удалось «реализовать в драме диахроническое качество музыкального лейттематизма, его способность воссоздавать временной объем, показывая прошлое в настоящем» [12, с. 503]. В конце концов, эстетический аспект берет верх над религиозным: «При переводе истинно церковной мистики таинства в театральную иллюзию чуда теология становится на службу художественно-поэтической природе произведения, делается структурной теологией» [12, с. 106].
В полной мере эта вагнеровская амбивалентность и неопределенность – как на уровне музыкального языка, так и на уровне мировоззренческих аспектов – воплотилась в образе Кундри.
Музыка – женщина: Namenlose
В одной из своих теоретических работ Вагнер дает такую характеристику музыке: «Музыка – женщина» [4, с. 130]. Этот образ далее разворачивается в целую серию сентенций, где итальянская оперная музыка сравнивается с блудницей, а французская – с кокеткой. Хуже всех оказывается «так называемая немецкая оперная музыка», которая, согласно Вагнеру, есть не что иное, как ханжа. Напротив, настоящая музыка – это женщина, которая любит: «которая свою добродетель видит в гордости, а гордость в жертве, в той жертве, с которой она отдает не часть своего существа, а все существо» [4, с. 135].
К какому из этих типов следовало бы отнести Кундри? Единственно возможный ответ на этот вопрос: сразу ко всем. Образ Кундри – самый сложный и многозначный, как в плане музыки, так и в плане смысла. Клингзор наделяет ее сверхвременными характеристиками: «Urteufelin! Hölenrose! Herodias warst du, und was noch?». Кундри – Прадьяволица и Адская роза, которая в одном из своих прошлых воплощений была Иродиадой. И кем еще? Она – Namenlose, не имеющая имени, та, которую нельзя назвать, поскольку нельзя вместить в одно имя всю спектральную множественность несогласующихся между собой смыслов.
Впоследствии Альбан Берг в своей опере выведет на сцену героиню, которая, как и Кундри, не может быть названа только одним именем. В Прологе этой оперы будет говориться, что зрителям предстоит увидеть создание, лишенное души («Die unbeseelte Kreatur zu schauen»). Unbeseelte в данном контексте – вариант Namenlose, образ бер-говской Лулу отсылает к образу вагнеровской Кундри. Пройдя через ряд звериных метафор,
Укротитель останавливается на змее – символе, в наибольшей степени подходящем для задачи сценического воплощения Первообраза Женщины: «Die Urgestalt des Weibes zu verstauchen». В этом месте появляется Лулу в костюме змеи и звучит главный мотив всей оперы (со слов: «Mein süßes Tier, sei ja nur nicht geziert!»). Если Кундри была Иродиадой, то Лулу в Первом акте оперы Берга называется Евой. При этом образ Кундри характеризуется большей амбивалентностью, поскольку наряду с ветхозаветными коннотациями содержит еще и отсылку к Марии Магдалине. На этот момент указывал Томас Манн: «Но образ Кундри, этой розы ада, нельзя не назвать явлением патологии в мифе; в своей мучительной раздвоенности и расщеплённости – одновременно орудие дьявола и жаждущая спасения кающаяся грешница» [10, с. 111]. У Берга этот второй мотив кающейся грешницы практически полностью редуцирован. И если Кудри под конец оперы обретает спасение, то Лулу ждет только гибель.
Обе героини несут смерть мужскому миру через животное, сексуальное начало, которое оказывается сильнее специфически мужских добродетелей – разума и закона. В «Парсифале», однако, находится мужчина, способный противостоять соблазнительным и губительным чарам Кундри. В «Лулу» таких персонажей нет. Никто не может ни спасти ее, ни спастись от нее. Единственным выходом в данной ситуации становится только убийство, на которое оказывается способен лишь стоящий вне разума и закона Джек-Потрошитель, alter ego погибшего во Втором акте Доктора Шона (в опере обе партии исполняет один и тот же певец).
Музыкальный портрет Кундри фактически предвосхищает музыкальный портрет Лулу. Именно здесь в наиболее явной форме «музыка Вагнера подходит непосредственно к порогу атональности»: «музыкальная энергия, как в крике, накапливается в одном-единственном диссонантном аккорде. Посреди мотива гармонической структуры фраза разламывается» [5, с. 357, 373].
Помимо самого Парсифаля, Кундри – единственный персонаж, присутствующий во всех трех актах оперы. Амфортас, Гурнеманц и рыцари Грааля выходят на сцену только в Первом и Третьем актах, в которых представлен христианский мир, его таинства и богослужения. Клингзор и цветочные девы появляются только во Втором акте, в котором воплотился языческий мир. Парсифаль принадлежит исключительно горнему миру, Клингзор – дьявольскому. В образе Кундри сфокусирован антагонизм между язычеством и христианством. Находясь в плену у низшего мира и будучи не в состоянии самостоятельно освободиться от него, она погружена в бездну тоски и томления по другому, высшему миру. Не в силах спастись, она жаждет спасения. Но Кундри не только героиня оперы, – это еще и сама музыка.
Проблема, таким образом, переводится в эстетическую плоскость. Речь идет о спасении музыки и искусства. В этой связи обращает на себя внимание то обстоятельство, что в Третьем акте спасенная Кундри перестает петь. Она присутствует на сцене физически, но не поет, что составляет разительный контраст на фоне Второго акта, где Кундри принадлежали наиболее сложные, виртуозные и яркие партии. Означает ли это, что спасенная музыка-женщина самоустраняется, уступая место религиозному культу, в котором священнодействуют уже одни мужчины? Чистая музыка, искусство ради искусства, подобны эмансипированной женщине, которая с фатальной неизбежностью становится орудием темных сил и несет в мир соблазны и вечную гибель. Без веры и церкви спасение невозможно. Искусство само по себе не спасает. Таково последнее слово Вагнера.
Однако в этом оптимистичном варианте разрешения конфликта чувствуется некая натяжка. Аналогичным образом позитивный финал гетевского «Фауста» был многими воспринят как искусственный. Альфред Шнитке в своей кантате о Фаусте посчитал необходимым от оптимистической гетевской версии обратиться к Народной книге, где Фауст гибнет [16]. И в «Лулу» Берга музыка-женщина погибает. Вагнер еще возлагал определенные надежды на будущее европейской культуры и цивилизации, верил в возможность спасения. Берг и Шнитке уже не находят такой возможности.