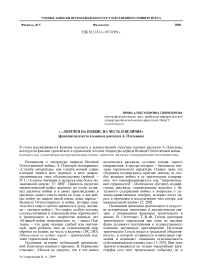«... Обречен на подвиг, на честь и величие» (функции подтекста в военных рассказах А. Платонова)
Автор: Спиридонова Ирина Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (98), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются функции подтекста в художественной структуре военных рассказов А. Платонова, исследуется феномен трагического в героической эстетике литературы периода Великой Отечественной войны.
Художественная структура произведения, героическое, трагическое, литература великой отечественной войны, подтекст
Короткий адрес: https://sciup.org/14749541
IDR: 14749541 | УДК: 821.161.161917/19919
Текст научной статьи «... Обречен на подвиг, на честь и величие» (функции подтекста в военных рассказах А. Платонова)
В статье рассматриваются функции подтекста в художественной структуре военных рассказов А. Платонова, исследуется феномен трагического в героической эстетике литературы периода Великой Отечественной войны. Ключевые слова: художественная структура произведения, подтекст, героическое, трагическое, литература Великой Отечественной войны
Размышляя о литературе периода Великой Отечественной войны, А. Платонов подчеркивал: «Служба литературы, как служба вечной славы и вечной памяти всех мертвых и всех живых, увеличивается этим обстоятельством (войной. – И. С. ) в своем значении и делается еще более незаменимой ничем» [7; 280]1. Писатель разделил патриотический пафос времени, но остро сознавал двуличье войны и в своих произведениях в пределах одного текста писал не одну, а две войны: войну по защите своей земли, дома, народа – Великую Отечественную и войну, которая охватила весь мир и глубоко проникла в душу человека – «вечную войну». Это задало особую поэтику сосуществования и взаимодействия героического и трагического в его творчестве военных лет. «В нашей войне знаменательно то, – писал Платонов, – что даже человек слабый или ничтожный, даже ребенок, еще не осмысливший мир, обречен на подвиг, на честь и величие» (ЗК, 280). Обреченный на подвиг народ – трагический подтекст героической темы.
Поднимая историю публикаций произведений Платонова военного времени, Н. Корниенко отмечает: «Нельзя не увидеть, что в эти книги включались рассказы, условно говоря, одного направления, в центре которых – батальные эпизоды героического характера. Однако даже эти сборники подвергались критике именно за особое видение войны в ее трагическом содержании, что квалифицировалось как “нагромождение странностей”. Особенному обстрелу подвергались рассказы, переводившие акценты с батального содержания войны к вопросам о духовно-нравственных потерях, которые несет народ, к причинам и последствиям этих потерь для национальной жизни» [2; 280].
Понимание феномена трагического в искусстве исторически изменчиво и диалектически связано с пониманием феномена трагического в жизни. В «Эстетике» Г.-В.-Ф. Гегеля категория трагического определена как одна из высших форм духовного постижения и художественного освоения жизненных противоречий. Источник трагического Гегель видел в «реальной объективности», в которой устраняется изначальная гармония и возникает «взаимная отъединенность субстанционально единых сил» [1; 525]. При этом трагизм измеряется не только масштабами катастрофы (это итог трагического события), но и исходной гармонией субстанционально единых сил как необходимой предпосылкой трагического события. В «катастрофическом» ХХ веке трагическое понимается все более расширительно. В философии и художественной практике экзистенциализма трагическому придано универсальное значение: жизнь безысходна и бессмысленна в силу смерти индивида, и катастрофичность человеческого бытия предстает его решающим, сущностным свойством. Пантрагизм миропонимания меняет оценку эстетического феномена трагического. М. Шелер полагает, что «вообще сомнительно, является ли трагическое существенным “эстетическим” феноменом» [12; 298]. Это сомнение (но не отрицание эстетического феномена трагического) подвигает автора на полемику во времени с классической эстетикой, гегелевской в том числе. Однако и М. Шелер разделяет то общее для философии и эстетики положение, что «трагическое появляется только в сфере движения ценностей. При этом время, в котором нечто свершается и возникает, нечто уничтожается и утрачивается, принадлежит к непременным условиям проявления трагического» [12; 301].
Попытаемся выявить основные формы трагического в художественном мире военных рассказов А. Платонова, идя от внутренних закономерностей отдельного произведения к общим художественным закономерностям его военной прозы, и установить связь между источником (сущностью) трагического и поэтическими формами его выражения.
«Генерал Бабай» – под таким названием впервые упоминается в записной книжке Платонова рассказ «Крестьянин Ягафар» (первая публикация: Платонов А. Крестьянин Ягафар: Очерк // Октябрь. 1942. № 10). Произведение пришло к военному читателю практически одновременно с рассказом «Броня» (Знамя. 1942. № 10) – оба произведения вышли в октябрьских номерах журналов. В том же 1942 году рассказ «Крестьянин Ягафар» открыл первый сборник военных произведений Платонова «Под небесами Родины». Как указано в выпускных данных, книга «Под небесами Родины» была сдана в набор «29.4.42». Соответственно (с учетом редакторской работы над сборником), рассказ «Крестьянин Ягафар» написан не позднее зимы 1941/42 года в Уфе по первым эвакуационным, очень тяжелым впечатлениям. В военном блокноте через страницу после записи «Генерал Ба-бай» помечен рассказ «Зимовка в Уфе» – «об эвакуации, озверелости и пр.» (ЗК, 220), его текст неизвестен. Приведем контекст, в котором находим первое упоминание рассказа «Крестьянин Ягафар» («Генерал Бабай») в записной книжке писателя 1941–1942 годов: «“Бьются <нрзб.>, а народы стоят в стороне, они лишь погибают и откупаются кровью”.
“Генерал Бабай”.
1/3 людей не работает, а глядит на работающих» (ЗК, 218).
Вслед идет размышление, которое не оставляет сомнений, что Платонов видел онтологическую связь событий внутренней и внешней истории: «Зло въяве, наружи – это только то, что у нас есть внутри. Это наши же извержения, чтобы мы исцелились» (ЗК, 219).
В рассказе «Крестьянин Ягафар» действие происходит в тылу, в далекой от фронта башкирской деревне: «Чтобы послушать о войне слова дальних людей… бабай (по-башкирски «дедушка», «старик». – поясн. А. Платонова) отправлялся на железнодорожную станцию» [9; 38]2. Главный герой – старик Ягафар «столько пережил за свой долгий век, и худого, и доброго, что худого давно перестал бояться, а доброму сразу не верил». Такого героя автор заявляет не как «мнительного», а как носителя правды (глаза у него «свежие, думающие»). Этот персонаж наделен предчувствием войны: «Всемирной войны бабай тоже не испугался: он давно чувствовал, что где-то посередине земли зреет смертное зло, и теперь оно вышло наружу, в войну, как и должно быть. Бабай чувствовал нарастающее всемирное зло по людям, по томлению их мысли, по содроганию их тихих сердец, все более скупо берегущих свое счастье, свое семейство и свою родную землю – все, что будет скоро удалено от них и страдать отдельно в бедствии . Бабай чувствовал это по людям, подобно тому как можно угадать перемену погоды по небу» (37)3.
Неотвратимая беда войны предсказывается по людям и жизни, которая оскудела на добро. Однако вещее знание не дается человеку даром, как не дается оно раз и навсегда, истину надо добывать неустанным трудом всю жизнь. Потому и сюжет рассказа, открытый трагическими мотивами общей беды и самости вины, далее драматически удвоен, появляется комический план. Подводит старика Ягафара «старое знание», и в Отечественной войне герою заново придется добывать правду.
Психологическая коллизия осознания вины идет в рассказе вглубь – от догадки об общечеловеческой вине до открытия персонажем вины личной. Вот первая реакция Ягафара на Отечественную войну: «После наступления войны ба-бай даже обрадовался , потому что до войны зло было далеко и скрытно, а теперь настала пора уничтожать его вблизи, в жизни , чтобы люди больше не боялись жить на свете, чтобы они не томились больше в разлуке с родными, не горевали от разорения своих дворов, не мучились голодом и увечьем, – чтоб отошла от них тоска, непосильная для человеческого сердца. Теперь настало это время, и бабай обрел надежду, что эта пора минует и тогда будет счастье » (37).
Словосочетание «зло было далеко и скрытно» двусмысленно: «далеко и (а потому. – И. С.) скрытно»; «далеко и (а также. – И. С.) скрытно». В сюжете развернута проблема «скрытного зла», угаданного, но не осознанного и не побежденного в ближней жизни, в себе. Радость старика, что настало время борьбы и победы над злом, обнаруживает инфантильность, облегченность и ограниченность его миропонимания. В том, как мыслит и проживает герой начало войны («ба-бай обрел надежду, что эта пора минует и тогда будет счастье»), затушевывается его же трагическое предчувствие. Подсознание «проговаривает» жизненную позицию старика – она созерцательная, вне происходящего («эта пора минует»), а победа добра над злом мыслится по-детски легко, как нечто неизбежное («и тогда будет счастье»). Причинно-следственную конструкцию такого типа М. Михеев называет «мифологией вместо причинности» [6]. Облегченное миропонимание героя задает трагифарсовое развитие сюжета: Ягафар – «гость» («свадебный генерал») на еще не свершенном празднике победы («Он пошел в гости по дворам, желая быть вместе с народом в такое время») и одновременно «старое дитя», «глупарь», серьезно и радостно играющий в войну: « – А на войну я не гожусь? – спросил у жены бабай. – Пойду убью одного врага и потом доволен буду.
Старуха поглядела на своего старика как на малознакомого человека.
– На войну ты не годишься, – сказала жена. – У тебя кость от старости жесткая, ты сразу, как побежишь на врага твоего, споткнешься и сломаешься» (38).
Патриотическое чувство Ягафара искренне (он хочет найти свое место в войне со злом), но легкомысленно до глупости. Именно так определит поведение бабая беженец, пожилой слесарь Петр Федорович Беспалов: «Ты старый человек, а глупарь!» Говорит это человек, у которого есть горький опыт войны настоящей, а не воображаемой.
Возвращение в разум старика Ягафара начнется в тот момент, когда они с Беспаловым пойдут смотреть заброшенное колхозное хозяйство: гибнущих на развалившейся ферме коров, сломанную мельницу, мертвый хлеб в поле. Боль, страдание, гибель разнообразного «вещества существования» прописаны трагически пронзительно и без пощады для человека. В рассказе вина персонально возлагается на старика Ягафа-ра: « – Это ты виноват, – произнес Беспалов. – Ты – старик, ты знаешь порядок – чего глядел?
– Правда твоя, – сказал бабай, – я старик, я виноват, чего глядел. Людей люблю, в гости ходил – я виноват.
И бабай зажмурился от крестьянского стыда , чтобы не видеть перед собой мертвый хлеб, павший в холодную землю» (43).
Трагические смыслы сфокусированы в натурфилософской коллизии. Опамятовший в сты-де4 Ягафар учится жить и работать заново, не пренебрегая никаким, самым малым опытом: «У коров учился, теперь у воробьев буду учиться, – сообразил старый Ягафар. – У всех надо!.. У себя только забыл учиться – у своего сердца забыл, но я помню – оно у меня помаленьку бо- лит: это чтоб я не забыл, как надо жить, а как не надо» (44).
Открытие своей вины перед миром – важный момент жизни платоновского героя с его инстинктивной потребностью жить по совести. Вторая половина сюжета, когда из «гостевой жизни» старый крестьянин Ягафар совестливо и мужественно идет в «солдатскую», также имеет комическое решение. Когда все сколь-нибудь годные мужчины ушли на фронт и старый Яга-фар стал председателем колхоза, «он полагал, что по военному времени это звание равнялось генералу, который командует всей рожающей силой земли, кормящей армию и согревающей ее» (45). «Генерал Бабай» – это итоговая в повествовании комическая форма выражения полноты исторической ответственности человека за жизнь, которая вбирает в себя по ходу сюжета не только героическое, но и трагическое содержание. Тема личной ответственности и вины за происходящее – искалеченную землю, опустошенную жизнь, миллионные жертвы – звучит явственнее в тех рассказах военного времени, где действие удаляется от передовой, переносится в тыл: «Крестьянин Ягафар», «Счастливый корнеплод», «Сампо». Понятия тыла как «защищенного мира» у Платонова нет.
Рассказ «Среди народа» имеет героическую доминанту и тем не менее он не был опубликован в период войны. Причина – трагический подтекст героико-патриотического рассказа. Написанный в 1942–1943 годах, рассказ придет к читателю только в оттепель 1960-х годов. Первая публикация произведения (в сокращенном варианте) состоялась в 1966 году на страницах «Литературной России» [10]. Полный текст рассказа, восстановленный по авторской рукописи, опубликован в двухтомнике «Избранных произведений» А. Платонова (1978) [8; 229–239]5.
Трагическое в рассказе «Среди народа» присутствует вне основного сюжетного действия. Оно проступает в мыслях героя, майора Александра Степановича Махонина, чье подразделение третий раз пытается выбить немцев из деревеньки Малая Верея и каждый раз встречает жестокое сопротивление врага. Можно было бы сказать «героическое сопротивление», но в реалиях Отечественной войны этот эпитет применительно к агрессору не может быть использован. Платонов находит другой – «жертвенная борьба немцев». Майор Махонин напряженно над этим размышляет: «Александр Степанович не мог понять столь жертвенной борьбы врагов ради удержания незначительного населенного пункта. Местоположение Малой Вереи и ее тактическая ценность в плане обороны противника не давали оправдания для защиты Вереи во что бы то ни стало, для мощных контратак с потерей целых рот от огня нашей артиллерии. Майор Махонин любил вникать в мысль противника, чтобы из сочетания ее с нашим замыслом найти истину боя и овладеть ею ради победы. Но здесь, в сражениях за Малую
Верею, он не мог угадать здравого военного расчета неприятеля, глупости же его он из осторожности не хотел допустить. Уже и мощный узел немецкой обороны на грейдерной дороге, что на левом фланге, был оставлен противником, и справа от Вереи наши войска тяжким прессом далеко вдавились вперед дугой по фронту, а немцы не жалели своих войск и машин, чтобы ужиться на этой избяной погорельщине у проселочной дороги» (ИП, 2, 229).
Жертвенная оборона немцев «во что бы то ни стало» внешне совпадает с героической защитой русскими солдатами деревни Семидворье в рассказе «Смерти нет! (Оборона Семидво-рья)», но свести их «внутренне» невозможно: у «жертвенной борьбы» немцев нет смысла. Чужая земля, если в ней нет «тактической ценности», не дает оправдания жертвам, ведь в ее защите нет патриотического смысла. Верея, размышляет офицер Махонин, «не давала оправдания» бесчисленным немецким жертвам людьми и техникой. Герой в конце концов найдет объяснение упорству врага, додумается вместе со старым крестьянином, когда освободится от рационального взгляда на происходящее: «Эти бои для немцев не имели смысла, но чья-то карьера или авторитет зависели от боев за Верею; у кого-то там, по слову старика, “забушевал” принцип , и сотни немецких солдат были переработаны нашим огнем на трупы, хотя каждому ездовому из немецкого обоза могло быть ясно, что Верею удержать было нельзя и не нужно. Майор еще раз понял , что разум не всегда бывает там, где ему положено обязательно быть, – чаще, чем рассудок, на войне, как и в мирной жизни , действуют страсти, личные интересы, заботы о пустяке, бушуют голые принципы , похожие на правду, как скелет на живого человека, животные чувства маскируются под здравый смысл, страх наказания вызывает упорство, которое можно принять за героизм… В армии, предчувствующей свое поражение и гибель, эти свойства явственно обнажаются… » (ИП, 2, 235)
«Бушующие голые принципы» – явление трагически универсальное в человеческом поведении и мировой истории. Платоновский герой открывает этот страшный побудитель человеческих действий и событий в поведении армии противника. При этом автор опускает в кульминационной части внутреннего монолога майора определения «немецкая», «фашистская» или «вражеская» армия. Безумие, свойственное «homo sapiens», приоткрывается в ходе дальнейшего размышления Махонина в поведении «армии, предчувствующей свое поражение и гибель».
Размышление Махонина, заданное отчаянным, безумным и безнадежным сопротивлением врага под Вереей, выходит за пределы конкретного факта. Мысли майора выстраданы, не случайны («еще раз понял»), характеризуют не только врага, но людей как таковых, выявляют темную, низменную природу человека («страх», «голые принципы», «животные чувства»), что с печальной закономерностью обнаруживает себя в человеческой истории («на войне, как и в мирной жизни»).
Невеселые мысли Махонина о безумной истории находят подтверждение в пейзажных зарисовках. «Избяная погорельщина», «сотлевшая в прах», – такой видит Махонин деревеньку Верею, когда в третий раз входит в нее с советскими войсками. Далее в тексте следует развернутое описание: «Семен Иринархович приютился для жизни в дворовой баньке… у самых прясел, за которыми вскоре же начинался лес, бывший теперь без листьев и без ветвей, обглоданный огненными битвами, похожий ныне на частокол мертвых костей, выросших из гробов . <…> Майор молча вздохнул от вида этой природы в России… » (ИП, 2, 232)
Лес после ожесточенных боев «похож на частокол мертвых костей, выросших из гробов». Такой предстает мать-природа на войне, которую ведут ее неразумные дети. Подобные картины природы, где мы видим, как война «пожирает» землю и природу России, «вгрызаясь» во чрево земли, «обгладывая до костей» ее тело, часто встречаются в военных рассказах Платонова. Ср.: «Поваленный и обглоданный взрывом лес и прах, развеянный из пропасти» («Старый Никодим», 96).
Древняя метафора «война – пир смерти» в художественном мире Платонова размыкает узко-гуманистические рамки человеческих жертв и включает в себя землю, растения, животных – все, что вместе с людьми составляет Родину: «Тысячи наших пушек вели огневую работу. <...> Со скоростью молний ведется титанический обвальный пушечный труд, обдирающий землю до глубокой белизны ее каменистых, материковых пород, до самых твердых костей ее тела. <...> И все же огонь возрастал; земной прах, дерево, металл и живые существа на стороне врага мололись в куски, потом повторно перемалывались на мелочь и еще раз накрывались огнем... » («Бой в грозу», 202–203)
Трагизм заключается в том, что защитники родной земли вынуждены участвовать в смертельной трапезе, «убивать» и «поедать» в боях ее живое тело6.
По мнению Е. Толстой-Сегал, лексема «по-горельщина», которую использует А. Платонов для характеристики происходящего, – сокровенная память о поэме Клюева «Погорельщина»: «Солидарность, сохранение памяти часто являются главной мотивацией аллюзий у Платонова. …Платонов ухитряется сослаться на абсолютно запретный текст в одном из военных рассказов, говоря о зверствах фашистов: “они желали бы всемирной погорельщины”. “Погорельщина” – название знаменитой тайной поэмы Клюева, в которой описываются голод и людоедство, наступившие вслед за катастрофой коллективиза- ции. …Цитата из репрессированного уже Клюева, считавшегося одним из кулацких идеологов, требовала отчаянной смелости» [11; 361]. Уточним, что клюевский образ-понятие «погорель-щина» встречается у Платонова не в одном военном рассказе. Словосочетание «избяная пого-рельщина», предваряющее в рассказе «Среди народа» траурный пейзаж испепеленной войной русской деревни и размышления героя об истории, где «бушуют голые принципы», хранит в подтексте трагическую память о революционной отечественной истории, отсылая к таким произведениям писателя, как «Чевенгур», «Котлован», «14 Красных избушек».
Трагическое не составляет главного содержания рассказа «Среди народа», оно проговаривается в каком-то смысле против воли повествователя (говорит трагический дар автора). Рассказ посвящен «осмысленному» героизму народа, представленного символической парой героев: солдатом и пахарем, которые защищают родину, отстаивают добрые, мирные начала жизни. Этика защитников Отечества определяет эстетику их описания. Как это часто бывает у Платонова, в описании выделена символическая деталь, служащая проводником в сокровенный внутренний мир человека. Майора Махонина мы не только видим, но и слышим (такая звуковая характеристика – знак близости героя к повествователю): «В голосе Махонина была слышна молодая добрая сила, располагающая к нему, кто слышал его, и звучало добродушие хорошего характера » (ИП, 2, 231). Приведем полный портрет крестьянина Семена Иринарховича: «Крестьянину было лет под семьдесят; он был человек небольшого роста, уже усыхающий от возраста, с клочком бурой бороды под подбородком и с теми небольшими, утонувшими во лбу светлыми глазами, которые наш народ называет мнительными: в его глазах различалась одновременно и слабость неуверенной человеческой души, и сосредоточенное глубокое внимание, доверчиво ожидающее, когда истина осенит его, - и тогда он будет способен на любую страсть, на подвиг и на смерть » (ИП, 2, 230).
В портрете Семена Иринарховича выделены глаза, а точнее, выражение глаз героя. Описание построено так, что читатель сразу видит душу крестьянина, в которой поселилось сомнение. Эта характеристика амбивалентна, двухчастна. В первой части речь идет о «мнительности» и «слабости неуверенной человеческой души» – она остается «недосказанной» в произведении. В дальнейшем повествовании драматически открытое начало рассказа о человеке, в «мнительных глазах» которого проступает «слабость неуверенной человеческой души» и возможность «любой страсти», свернуто, подчинено патриотической идее.
Из довоенного прошлого Семена Иринарховича дан только один эпизод, когда он «сумел своим усердием добыть из местной отощалой почвы столь тучный урожай льна и конопли, что его пригласили на выставку в Москву, чтобы показать всему народу этого тщедушного, но хитроумного труженика». События, которые разворачиваются в сюжете в художественном настоящем, также «подтверждают» лишь вторую часть амбивалентной начальной характеристики: встречу человеческой души с истиной («когда истина осенит его» – и тогда он будет способен «на подвиг и смерть»). В ходе разговоров старика с майором Махониным не раз отмечено «верное» понимание жизни Семеном Иринарховичем и даже «превосходство крестьянского ума», так что майор «мог поучиться у него». Последний поступок старого крестьянина свидетельствует о торжестве добрых начал жизни, о восхождении человека к главному ее смыслу. Среди войны крестьянин выйдет на поле собирать гибнущий урожай: «В скупой жатве старика Махонин видел доброе одухотворение своего народа, которым он одолеет неприятеля и исполнит все свои надежды на земле» (237). Спасая зерно, замерзающее под снегом, Семен Иринархович подорвется на фашистской мине.
Рассказ «Среди народа (Офицер и крестьянин)» показывает, что А. Платонов, не упрощая человека, означив его сложное содержание, далее выделяет главный смысл жизни народа в Отечественной войне, а он героический: освободить родину, мир от фашизма, спасти жизнь, добро и правду. Об этом говорит старый крестьянин Семен Иринархович майору Махонину, оформляя свою мысль в фольклорные образы-символы: «Как зимовать теперь будете, Семен Иринархович, – плохо жить в разорении…
– Ничего, Александр Степанович, мы стерпим, а вскоре, бог даст, и отстроимся. Зато какое дело мы с тобой и с прочими народами исполнили – такую гадюку всего мира на тело России приняли и удушили ее» (ИП, 2, 236).
Змей, символизирующий фашизм, – древнейший фольклорный образ зла, в христианстве – обличье сатаны. Рассказ «Среди народа (Офицер и крестьянин)» – пример того, как трагические смыслы, присутствуя в произведении, локализуются, свертываются и уходят в подтекст, но не отменяются, разворачиваясь уже за пределами данного произведения в контексте творчества Платонова.
В ситуации Священной войны Андрей Платонов не обо всем мог и не всегда считал себя вправе писать. Но там, где он начинал рассказ, художник был верен правде жизни. Это незыблемое основание не только платоновской этики творчества, но и эстетики. Четыре года войны из произведения в произведение он продолжал писать «великую драму» жизни, где для верности действительности ему необходима была не только героическая патетика, но и трагическое, лирическое, комическое, ироническое начала – и снова трагическое. В малой эпической форме Платонов стремился запечатлеть многообразие жизни, все ее частные подробности, из которых складывается общая картина. «Каждый, естественно, хочет найти лишь одну сторону дела, реш<ающее> звено, чтобы исполнить все дело, – так экономней и для мысли, и для усилий. Нужны же все стороны дела. Именно поэтому принцип организации всего, как ни труден для исполнения этот принцип, есть высший принцип и единственное искусство практической победы. Этот принцип как бы “сер”, п<отому> ч<то> он труден и суетен, но он – истина» (ЗК, 220).
Героическая правда и трагическая истина – так можно определить двойное ядро художественной философии военной прозы А. Платонова. Этическая необходимость, в которую был поставлен художник, пишущий «внутри войны», порождала особый механизм взаимоотношений героического и трагического в поэтической структуре и семантике произведений. Можно говорить об определенных закономерностях, которые прослеживаются в отборе материала, его сюжетной организации, форме пафоса: чем ближе место действия в произведении к фронту, к передовой, где «сейчас» (имея в виду художественное время, совпадающее с историческим) идет смертельный поединок с фашизмом, тем сильнее звучит у Платонова героическое начало; чем дальше – в даль и глубь мира, тем жизнь человеческая представлена трагичнее (принцип обратной перспективы). Разные формы взаимодействия героического и трагического в военных рассказах Платонова прослеживаются на всех уровнях поэтической структуры и не сводятся к взаимоотрицанию, к деструкции. Функционально значимо в художественном мире Платонова их соположение и возникающее при этом семантическое напряжение.
Обобщая свои наблюдения о специфике трагического в художественном мире Платонова, А. Кретинин определяет его как «античный трагизм»: «Источник трагического состояния платоновского мира в том, что он находится в непреодолимом расхождении с самим собой и, как следствие, в вечном неутолимом стремлении к самому себе, к восстановлению своей целостности. Это стремление неудовлетворимо, так как включает в себя стремление к крайностям, по-видимому, не совместимым. <…> Таково, например, устремление платоновского мира в “Чевенгуре”: в пространстве – к макси- мальной сжато сти и к бесконечному распространению, во времени – “к концу света”, концу времени и к его разомкнутости как в прошлое, так и в будущее. <…> Субъектом трагического в художественном мире Платонова является не столько личность, сколько сам мир. <…> Античный трагизм Платонова пользуется для выражения своего пафоса такими формами, как “скорбь”, “то ска”…» [3; 66–67] Эти наблюдения и выводы сделаны при концентрации исследовательского внимания на прозе Платонова 1920–30-х годов. Художественный мир военной прозы, семантика и функции трагического в нем, как показал анализ, имеют ряд принципиальных отличий от «античной модели». Как и раньше у Платонова, начиная с сюжетно значимых «оговорок» повествователя («зло было… скрытно», «голые принципы», «погорельщи-на»), художественное исследование исторической действительности идет с поверхности социально-идеологического конфликта времени в онтологическую глубь проблематики «вечной войны». Однако главные «слагаемые» художественного мира: человек и жизнь, природа и история – получают иную поэтическую расстановку, которая выражает новое миропонимание автора. Военная проза Платонова отлична от художественной модели «античного трагизма», где роль человека – быть «пассивным объектом претерпеваемой судьбы»; она, пожалуй, ближе (но не тождественна) к новоевропейской эстетике трагического, которая «исходит из того, что человек сам виновен в постигших его ужасах и страданиях» [5].
Художественный мир военных рассказов Платонова не может быть полноценно охарактеризован без учета функций подтекста. В чрезвычайных обстоятельствах войны писатель продолжил с читателем разговор о «всей жизни», полагая, что здесь он как никогда необходим. «Вся жизнь» – название рассказа (1943) и итоговой книги (1945) Платонова военных лет, которые ему, несмотря на все усилия, так и не удалось опубликовать, однако необходимый разговор о «великой драме» жизни с читателем состоялся. Нравственно-философские дилеммы исторической трагедии человека, редуцированные и сконцентрированные в «единословие»7, поставлены Платоновым уже в первых рассказах начала Великой Отечественной войны.
Список литературы «... Обречен на подвиг, на честь и величие» (функции подтекста в военных рассказах А. Платонова)
- Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика: В 4 т. М.: Искусство, 1971. Т. 3. 621 с.
- Корниенко Н. История текста и биография А. П. Платонова (1926-1946)//Здесь и теперь. 1993. № 1. С. 3-320.
- Кретинин А.А. Трагическое в художественном мире Андрея Платонова и Бориса Пастернака//Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Библиография. СПб.: Наука, 1995. С. 66-67.
- Кретинин А.А. Мифологический знаковый комплекс в военных рассказах Андрея Платонова//Творчество Андрея Платонова: исследования и материалы. Кн. 2. СПб.: Наука, 2000. С. 41-57.
- Лосев А. Трагическое//Философская энциклопедия: В 5 т. М.: Советская энциклопедия, 1970. Т. 5. Стлб. 252.
- Михеев М.В мир Платонова через его язык. М.: Изд-во МГУ, 2003. 408 с.
- Платонов А. Офицер и крестьянин (Среди народа)//Лит. Россия. 1966. № 13.
- Платонов А. П. Избранные произведения: В 2 т./Сост. М.А. Платонова; текстолог М.Н. Сотскова; коммент. Е.А. Краснощековой и М.Н. Сотсковой. М.: Худож. лит., 1978. Т. 2: Рассказы (1934-1950). 398 с.
- Платонов А. Одухотворенные люди: рассказы о войне/Сост. и вступ. ст. В. М. Акимова. М.: Правда, 1986. 432 с.
- Платонов А. Записные книжки: материалы к биографии/Публ. М.А. Платоновой, сост., подгот. текста, предисл. и примеч. Н.В. Корниенко. М.: Наследие, 2000. 424 с.
- Толстая Е. Литературная аллюзия в прозе Андрея Платонова//Мирпослеконца: работы о русской литературе ХХ века. М.: Изд-во РГГУ, 2002. С. 352-365.
- Шелер М. О феномене трагического//Проблемы онтологии в современной буржуазной философии. Рига: Зинатне, 1988. С. 298-317.