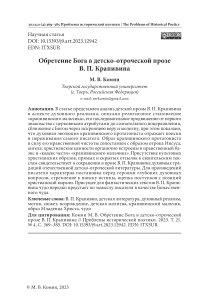Обретение Бога в детско-отроческой прозе В. П. Крапивина
Автор: Комин М.В.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ детской прозы В. П. Крапивина в аспекте духовного реализма, описано религиозное становление «крапивинского мальчика», его последовательное продвижение от первого знакомства с церковными атрибутами до сознательного воцерковления, сближение с Богом через искреннюю веру и молитву, при этом показано, что духовная эволюция крапивинского протагониста отражает поиски и переживания самого писателя. Образ крапивинского протагониста в силу его нравственной чистоты сопоставлен с образом отрока Иисуса, ангела; христианские ценности органично встроены в нравственный базис и «кодекс чести» «крапивинского мальчика». Присутствие культовых христианских образов, прямых и скрытых отсылок к евангельским текстам свидетельствует о сохранении в прозе В. П. Крапивина духовных традиций отечественной детско-отроческой литературы. Для произведений писателя характерна постановка перед героями глубоких духовных вопросов, стремление к поиску истины, оценка поступков с позиций христианской морали. Присущее для фантастических текстов В. П. Крапивина чудо нередко предстает по замыслу писателя в качестве Божественного чуда.
В. п. крапивин, детская литература, духовный реализм, мотив, сюжет, возрождение, детская молитва, крапивинский мальчик, образ младенца христа, чудо
Короткий адрес: https://sciup.org/147242341
IDR: 147242341 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12942
Текст научной статьи Обретение Бога в детско-отроческой прозе В. П. Крапивина
В ладислав Петрович Крапивин известен широкому кругу читателей как автор советских «школьных повестей», сказочных и фантастических произведений для детей и подростков, романов о жизни юношеских отрядов. При этом как писатель, философ и педагог Владислав Крапивин на протяжении всего своего жизненного и творческого пути по-своему осваивал духовную реальность человеческого бытия, искал пути совершенствования мира и человека на основе духовных ценностей. В силу специфики преимущественно приключенческих детско-юношеских произведений В. П. Крапивин всегда по-особому подходил к воссозданию на страницах своих книг духовной реальности, к вопросам веры, церковной жизни, отношений Бога и человека.
Сближение художественной литературы с христианской духовностью, включение в канву художественного произведения реалий христианской картины мира позволяет говорить о духовном реализме как обособленном литературном направлении [Любомудров]. В. А. Редькин рассматривает духовный реализм в качестве самостоятельного художественного метода [Редькин: 71].
В отечественном литературоведении обыкновенно отмечается, что возрождение традиций духовного реализма в русской литературе приходится на 1990-е гг. и объективно обусловлено широким приобщением народа к религии, восстановлением престижа церкви и т. д. [Любомудров: 119]. Вместе с тем, по замечанию М. М. Дунаева, «важнейшее качество нашей отечественной словесности — ее православное миропонимание <…>. Православие на протяжении веков так воспитывало русского человека, так учило его осмыслять свое бытие, что он, даже видимо порывая с верою, не мог до конца отрешиться от православного миросозерцания» [Дунаев: 5]. В этом плане примечательно, что постановка духовных вопросов в контексте истинно христианского духовного поиска присутствует еще в советских произведениях В. П. Крапивина.
В повести «Нарисованные герои» (2003) В. П. Крапивин приводит фрагменты своего неоконченного рассказа 1965 г. «В семь взойдет Юпитер», который не был ранее опубликован по ряду причин. Его сюжет строился вокруг спора мальчика
Виталика с подслеповатой бабушкой: в сочельник старушка спутала промелькнувший Юпитер с первой Рождественской звездочкой1. Редактор принял рукопись с интересом, разглядев в бабушкиной ошибке насмешку над «религиозными предрассудками» и отметив востребованность в советской печати произведений с атеистическим уклоном; но именно в тот момент, по признанию В. П. Крапивина, в его душе «включились тормоза»:
«Я не хотел быть проповедником атеизма. Мой собственный стихийный атеизм, живший во мне в студенческую пору, остался в прошлом. Неназойливо, мягко, но неотвратимо во мне зрело убеждение, что мир не мог возникнуть и существовать без Высшего Разума, без Творца. Без Него он терял всякую логику, всякий смысл. Я не искал, не лелеял в себе эту идею, она кристаллизовалась сама, снисходительно отодвигая в сторону доводы примитивного материализма. Ее довод был осознанным, неоспоримым и простым: "Иначе просто не может быть". За ним стояли годы размышлений и споров с самим собой, но это отдельная тема…» 2 .
По личным убеждениям веры В. П. Крапивин отказывается становиться атеистическим писателем даже в условиях официального господства атеистической идеологии, что подтверждает прочность его духовной позиции.
Герои повести «Ковер-самолет», Олег и Виталька, на летних каникулах летают на ковре-самолете и исследуют с воздуха провинциальный сибирский городок:
«И вдруг Виталька приключенческим шепотом сказал:
— Колокольня…
Вот это да! Как мы раньше не подумали? Как мы, летая над городом, вообще ни разу не догадались заглянуть на колокольню? Туда, где ни кого не было целых сорок лет!» 3
Молчащие церкви и колокольни выступают хранителями древней тайны, которую хочется разгадать автору и его героям. На таком уровне отношения к церковным строениям еще нет собственно духовного, религиозного понимания христианского храма как «дома Божьего». В то время религия фактически запрещена в советской школе и пионерской организации, люди умалчивают о вере, опасаясь гонений. Первое знакомство крапивинских героев-школьников с отголосками православной культуры происходит через уцелевшие религиозные объекты, строения и артефакты. В этом ключе исследование «крапивин-скими мальчиками» старинных церквей в поисках древней тайны, загадки выступает первой, начальной ступенью в их знакомстве с утерянной религиозной культурой.
Духовное рождение «крапивинского мальчика» (центрального героя в творчестве В. П. Крапивина) демонстрирует повесть «Сказки Севки Глущенко» (1984), события которой происходят в 1946 г. Второклассник Севка Глущенко живет с матерью в небольшом сибирском городке и готовится стать пионером. Его подруга, одноклассница Алька, тяжело заболела скарлатиной: с каждым днем ей становится все хуже и хуже. Севка навещает Альку, всячески поддерживает ее и при этом болезненно переживает собственную беспомощность в сложившейся ситуации, невозможность действительно облегчить состояние девочки. Перебрав все возможные способы помочь Альке, Севка в конце концов обращается с молитвой о ее выздоровлении к Богу, на которого возлагает свою последнюю надежду:
«Но сейчас не было выхода. И главное, времени не было.
Алька могла умереть в любую секунду, и тогда проси не проси… Севка так и сказал:
-
<…> "Помоги ей, если не поздно, очень тебя прошу. Очень-очень… Ну, пожалуйста! Сделай, чтоб она поправилась…" <…>
"Ты думаешь: в пионеры собрался, а Богу молится, — с тоской сказал Севка. — <…> Ну… Если иначе нельзя, пускай… Пускай не принимают в пионеры. Только пусть поправится Алька!"» 4
Сделав свой выбор, Севка Глущенко духовно перерождается: теперь он не просто знает что-то о Боге из разговора соседок, он искренне верит в Бога и вверяет Господу судьбу дорогого ему человека. Ради исцеления Альки Севка готов принести в жертву Богу свое членство в пионерии, пострадав таким образом за свою веру и дружбу. Конечно, Севка не воцерковлен и не осведомлен о церковных обрядах и канонических молитвах: к Богу его приводят искренняя сердечная вера и поистине христианская любовь к ближнему. В. П. Крапивин композиционно подчеркивает сцену молитвы Севки, которая является кульминационной. Далее следует разрешение конфликта — выздоровление Альки и ее возвращение в класс. Открытость детского восприятия позволяет ощутить исцеление Альки как чудо, возможное благодаря любви Бога к детям и вере Севки в силу молитвы.
Как отмечает Н. Ю. Богатырева, лучшие советские произведения для детей учат грамотно справляться с тяжелыми эмоциями:
«Какими бы горькими ни были эти переживания, в них надо видеть душеполезные свойства. И в этом литература "самого светского в мире государства" перекликается с образцами духовной литературы, неся в себе свет христианского отношения к страданию и жизни» [Богатырева: 32].
Говоря о любви, Владислав Крапивин обращается к ее высшему духовно-нравственному проявлению: жертвенной христианской любви.
-
В. М. Каплан отдельно обращает внимание на то, что крапивинские герои по-настоящему «умеют молиться. <…> Им трудно подбирать слова, рассудок у них при этом часто конфликтует с сердцем, но они молятся. <…> Они в своем обращении к невидимому началу предельно честны. Они молятся не ради интереса, не ставя психологические эксперименты, не для "приличия" или "на всякий случай". Лишь когда по-настоящему допекло, они всеми силами своей души обращаются за помощью»5. Именно такая молитва возводит Севку Глущенко на новую, более высокую ступень духовности: от гипотети ческого знания о существовании далекого и непонятного Бога
(которого Севка представляет себе в облике бородатого старика, сидящего на каменной башне высотой до самых звезд) мальчик приходит к искреннему и притом абсолютному доверию к Богу.
Основные события крапивинского романа «Кораблики, или "Помоги мне в пути…"» (1993) также происходят в пропитанное атеизмом советское время: Петька Патефон наотрез отказался отдать в лом оклад старинной иконы Божьей Матери, за что его лишили пионерского галстука:
«Мы на нее вдвоем с мамой часто смотрели, — с теплотой вспоминал об иконе Петька, — прижимаясь друг к другу плечами. А на иконе маленький сын тоже прижимался к материнскому плечу. И оба глядели на меня и на маму так, словно все знали про нас. И жалели…» 6 .
По указанию С. Н. Лифинцевой, «духовность — это проявление устремленности к совершенному, идеальному, целостному. Она преодолевает утилитаризм, чисто практическое, точнее прагматическое, бытие человека» [Лифинцева: 65]. Петька Патефон считает кощунственным рассматривать старинный оклад как предмет железного лома: идя наперекор атеистически настроенному большинству, он преодолевает утилитаризм и отвергает прагматическую модель поведения. Намоленная семейная икона несет герою утешение и защиту.
Е. А. Великанова обращает внимание на то, что тема детской, юношеской духовности в произведениях Владислава Крапивина раскрывается в том же ракурсе, что и в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: в крапивинских «Корабликах…» слова о «слезинке замученного ребенка», уповающего лишь на Бога, звучат с той же болью и остротой, что и из уст Ивана и Алеши Карамазовых; тонкий психологизм в передаче духовных переживаний героев приближает «Кораблики…», один из самых сложных романов В. П. Крапивина, к творчеству Ф. М. Достоевского [Великанова, 2008а: 47].
Как верно отмечает И. А. Казанцева, изображение реалий духовной жизни в детском художественном произведении имеет свои особенности: прежде всего, христианские онтологические представления встраиваются в текст с поправкой на детское восприятие. При этом особое значение приобретает «правда чувств» ребенка — категория православной аске-тики, которая становится способом постижения сердцем истин духовного откровения, «стяжания Духа» [Казанцева, 2009b: 140–144]. Движимые «правдой чувств», герои В. П. Крапивина стремятся к духовности в силу своей чистоты, иногда подсознательно.
Когда мамы не стало, Петька Патефон отнес икону Богоматери вместе с самодельным корабликом в полуразрушенную «Детскую» церковь, которую вскоре восстановили. С тех пор этот храм в народе прозвали «Корабельным». Дети несли к нему маленькие кораблики с записками к Богу и пускали их в плаванье: возле алтаря церкви пробился из земли святой ключ. Изложенная история органично сочетает в себе наиболее яркие, узнаваемые черты крапивинской романтики (парусные корабли, мальчишеские мечты о дальнем плаванье) и глубокое духовное содержание: Божья Матерь поддерживает осиротевшего Петьку и выступает Матерью-Покровительницей всех детей в трудные времена, «Корабельный» храм предстает как «корабль спасения» человеческих душ в полном опасностей и искушений житейском море (здесь же — отсылка к библейскому образу спасительного Ноева ковчега). Хрупкие самодельные кораблики несут к Богу простые и бесхитростные детские просьбы. Вместе с тем искренняя и чистая детская молитва творит настоящее чудо — открывает святой ключ и возрождает опустевшую церковь. Присущее творческой вселенной В. П. Крапивина чудо приобретает характер Божественного чуда.
Многообразие христианских образов представлено автором в стройной, философски структурированной художественной системе. Глубина их раскрытия в рамках православного мировоззрения в сочетании с выверенным психологизмом помогают В. П. Крапивину передать чуткое отношение своих юных героев к возрождающейся духовной жизни.
Художественное осмысление детской духовности, по замечанию И. А. Казанцевой, предполагает встраивание концепта «детства» в православную онтологию [Казанцева, 2009a: 83], что обуславливает специфику художественного метода В. П. Крапивина в романе «Кораблики…», позволяет говорить о развитии писателем традиции духовного реализма.
Герои В. П. Крапивина, движимые безусловной верой в добро и справедливость, непрестанно находятся в духовно-нравственном поиске. Так, Федя из повести «Синий город на Садовой» (1991) во время просмотра кинофильма «Евангелие от Луки» глубоко сочувствует страдающему за людей Христу и потому обещает себе: «Я буду за Него заступаться»7.
Придя в церковь, Федя решает принять крещение:
«У Феди кто-то (он уж и не помнит кто) спросил:
— А может, и тебя, отрок, обратить в православную веру? Хочешь?
Полумрак церкви казался Феде таинственным и ласковым, люди — добрыми, и не хотелось уйти отсюда как постороннему. <…>
— Да… — выдохнул Федя» 8 .
Не остаться равнодушным, не пройти мимо несправедливости, не оставить в беде слабого и защитить того, на кого ополчилась разъяренная толпа, — таков принцип и поступок каждого «крапивинского мальчика», обусловленный самим типажом этого персонажа, изначально присущим ему нравственным кодексом [Сергиенко: 153]. При этом в духовном росте Федя превосходит Севку Глущенко: Севка простодушно молится Богу, не имея никакого представления о религии (Бога он представляет себе в виде задумчивого старика, сидящего на уходящей в небо каменной башне), в то время как Федя осознанно встает на духовный путь, доступными способами черпает знания об истоках и содержании религии (смотрит фильм про Христа), по своему собственному желанию принимает крещение в православном храме и дает Богу обет («заступаться за Него»), то есть вступает в сознательные отношения с Богом и Церковью. Таким образом, в построении сюжета, мотивации и поступках протагониста четко прослеживается позиция автора как сто ронника православия.
По мнению С. Го и Е. В. Хабибуллиной, использование церковно-религиозной лексики в детской литературе не только выполняет номинативную функцию, но и служит средством выражения интенции автора, открывает в тексте дополнительный культурно-смысловой пласт [Го, Хабибуллина, 2021: 6–8], а также приобретает важную просветительскую роль, знакомит юного читателя с православной культурой [Го, Хабибуллина, 2020: 66]. После крещения Федя осознает себя не просто мальчиком, а воцерковленным отроком: употребление В. П. Крапивиным церковнославянизма подчеркивает самоопределение героя внутри церкви, его приверженность к православной традиции. Таким образом, церковнославянская лексика в тексте повести становится художественным средством для передачи формирующегося религиозного чувства героя.
С конца 1980-х гг. разговоры о православии в произведениях В. П. Крапивина уже звучат открыто и в полный голос. На страницах его книг все чаще появляются образы мудрых священников: отец Дмитрий ( повесть «Крик петуха» (1989) ) , отец Евгений ( повесть «Синий город на Садовой» (1991) ) , отец Леонид, настоятель монастыря ( повесть «Лоцман» (1991) ) . В то время как для классической отечественной литературы характерно использование традиционных образов старцев и степенных священников, В. П. Крапивин представляет образ энергичного молодого священника как «персонифицированного носителя добра» [Никольская: 171]. Священники выступают для «крапивинских мальчиков» авторитетными наставниками и в некотором смысле напоминают крапивинских руководителей юношеских отрядов, командоров. Они так же приходят ребятам на помощь в сложных ситуациях (отец Евгений спасает Федю, убегавшего от милиционера Щагова)9, помогают принять правильное решение в сложной ситуации и обрести душевный покой (отец Дмитрий подает Филиппу свечку, чтобы помолиться за погибшего друга)10.
Православный священник Дмитрий Струев трактует кра-пивинский лейтмотив Дороги11 как путь добра, поиск истины, стимул к духовному росту — Дорогу к Вечному12. На Дорогу выходит каждый, кто ищет отгадку тайнам Бытия, кто сталкивается лицом к лицу с тайнами Мироздания в силу определенных обстоятельств [Великанова, 2008b: 76]. При этом Дорога, Судьба у каждого своя. Петька Патефон подошел к иконе Божьей Матери с игрушечным корабликом в руках и коротко помолился: «Помоги мне в пути…»13. По убеждению В. П. Крапивина, свой жизненный путь, свою Дорогу человек может преодолеть лишь с помощью Господа, уповая на Промысел Божий.
В романе «Прохождение Венеры по диску Солнца» (2005) сюжетообразующим выступает мотив преодоления: ангел-хранитель Вовка помогает Ивану не только устранить внешние преграды, но и разрешить внутренние противоречия, угасить переживания и сомнения, вызванные предательством друзей, ссорой с возлюбленной Лидией [Аникина: 123].
Е. А. Великанова отмечает присутствие в произведениях В. П. Крапивина образов-символов, несущих в себе память христианского мироощущения и обращение писателя к евангельским мотивам, сюжетам — иногда сознательное, иногда интуитивное. Так, в повести «Сказки о рыбаках и рыбках» (1991) часовенка указывает художнику Валентину Волынову путь к Маленькому Рыболову, который чудесным способом вылавливает рыбок из дождевой бочки. Исследователь сопоставляет описанную сцену с евангельским сюжетом призвания Христом будущих «ловцов человеков», апостолов Симона, Петра и Андрея, бывших рыболовами, и чудесного улова рыбы по слову Спасителя. В дополнение к этому Е. А. Великанова указала, что в церковной традиции рыба выступает одним из символом Христа, поскольку греческая фраза Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ (Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель) на иконах Спасителя складывается в аббревиатуру Ίχθύς, совпадающую со словом «рыба» на греческом языке [Великанова, 2011: 372].
Господь Иисус Христос в художественном представлении Владислава Крапивина чаще предстает в образе мальчика: младенца (как на иконе, доставшейся Петьке Патефону от прабабушки) или отрока. В повести «Лоцман» (1990) В. П. Крапивин пересказывает евангельский сюжет об исчезновении 12-летнего Иисуса в Иерусалиме:
«А людям-то все интересно было знать про Христа. И про то, как он маленький был, тоже» 14 .
Отрок Иисус выступает типичным крапивинским мальчиком, неколебимо стоящим на защите добра, правды, справедливости.
В 2015 г. В. П. Крапивин передал екатеринбургскому храму список с образа «Спас Эммануил», который написал его воспитанник Дмитрий Хайдаров, выпускник отряда «Каравелла». Оригинал иконы находится в Третьяковской галерее и представляет собой лик 12-летнего Христа: Иисус в этом возрасте еще не знает, что он Сын Божий, но своими речами уже открывает людям истину. Так и все «крапивинские мальчики», сверстники юных читателей, выступают по замыслу автора примерами для подражания15.
Эволюция героев В. П. Крапивина во многом отражает духовные поиски самого писателя, формирование его религиозного чувства и неразрывно соотносится с процессом религиозного возрождения в позднем СССР и постсоветской России. «Крапивинские мальчики» проходят непростой духовный путь от первого знакомства с церковно-религиозными атрибу тами (порой ка к бы случайного) до сознательного воцерковления.
Важную роль в приближении «крапивинского мальчика» к Богу играет молитва. Испытание, в котором невозможно рассчитывать на свои силы и помощь людей, открывает для юного героя диалог с Богом. Молитва «крапивинского мальчика» является истинно жертвенной: герой согласен отказаться от всех благ и почестей «мира земного», чтобы приблизиться душой к Творцу.
По убеждению В. П. Крапивина, именно чистые душой дети с присущей им чуткостью и верой в чудо играют ключевую роль в процессе духовного возрождения, сохраняют «огонек веры» в темные и холодные времена. Истоки «сердечной веры» в представлении Владислава Крапивина — всегда родом из детства (именно мальчик-ангел Вовка помогает потерявшемуся в мирской суете Ивану вновь обрести веру и выстоять в испытаниях). Обретение Бога помогает юным героям В. П. Крапивина по-новому взглянуть на мир, отсеять суетное от вечного, тщетное от важного, злое от доброго.
Образ «крапивинского мальчика» соотносится в художественном представлении писателя с отроком Иисусом, ангелом-хранителем (в романе «Прохождение Венеры по диску Солнца» (2005) двенадцатилетний Вовка Тарасов, разбившийся в прошлом на велосипеде, приходит в жизнь Ивана Тимохина в ипостаси ангела, небесного помощника: «Свалился с потолка? Как ангел небесный? <…> Именно так! Именно ангел! И-мен-но!»)16, что сближает авторский типаж юного героя с высшими христианскими образами и идеалами. Идейно-нравственный базис «крапивинского мальчика» (авторского протагониста) неразрывно связан с христианскими духовными ценностями, пусть иногда — подсознательно; крапивинский герой непрестанно находится в духовном поиске, жаждет правды, добра и справедливости.
Христианские мотивы нередко обуславливают тематику и проблематику произведений В. П. Крапивина, их сюжетообразующие конфликты, образный мир; духовный реализм как художественный метод занимает значимое место в творческом инструментарии писателя.
URL: https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/114/kazant-seva_114_140_147.pdf (05.05.2023) (b)
Список литературы Обретение Бога в детско-отроческой прозе В. П. Крапивина
- Аникина Ю. А. Случай как фактор эскалации конфликта в прозе В. П. Крапивина // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2013. № 1 (76). С. 123–126 [Электронный ресурс]. URL: http://izvestia.vspu.ru/files/publics/76/123-126.pdf (05.05.2023).
- Богатырева Н. Ю. Духовно-нравственные ценности в современной детской литературе // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. 2018. № 51. С. 26–41 [Электронный ресурс]. URL: https://periodical.pstgu.ru/ru/series/issue/4/51/article/6790 (10.05.2023). DOI: 10.15382/sturIV201851.26–41
- Великанова Е. А. Достоевский и Крапивин: параллели сходятся // Вестник Новгородского государственного университета. Серия: История. Филология. 2008. № 47. С. 46–48 [Электронный ресурс]. URL: https://portal.novsu.ru/file/142189 (05.05.2023). (a)
- Великанова Е. А. Мотив сказочной «пути-дороги» в научнофантастических повестях Владислава Крапивина // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2008. № 2 (93). С. 75–79. (b)
- Великанова Е. А. Евангельский текст в фантастических повестях В. П. Крапивина (цикл «в глубине Великого Кристалла») // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск; СПб.: Алетейя, 2011. Вып. 9. С. 367–378 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1455534386.pdf (07.05.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2011.331
- Го Сюеяо, Хабибуллина Е. В. Функционирование церковно-религиозной лексики в детской литературе // Филология и культура. Казань, 2020. № 4 (62). С. 61–67.
- Го Сюеяо, Хабибуллина Е. В. Религиозная лексика в современной русской детской литературе (на материале романа Ю. Вознесенской «Юлианна, или Игра в киднеппинг») // Филология и культура. Казань, 2021. № 3 (65). С. 6–11 [Электронный ресурс]. URL: https://filkult.elpub. ru/jour/article/view/292 (12.05.2023). DOI: 10.26907/2074-0239-2021-65- 3-6-11
- Дунаев М. М. Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в XVII–XX веках. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. 1056 с.
- Казанцева И. А. Концепт «Детства» в системе ценностей современной культуры // Система ценностей современного общества. cб. мат-лов V Всерос. науч.-практ. конф.: в 2 ч. Новосибирск. 2009. Ч. 1. С. 79–84. (a)
- Казанцева И. А. Традиция осмысления православия в контексте «детской» темы в творчестве современных русских писателей // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 114. С. 140–147 [Электронный ресурс]. URL: https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/114/kazantseva_114_140_147.pdf (05.05.2023) (b)
- Лифинцева С. Н. Духовность современной личности и пути ее формирования // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2014. № 2 (2). С. 64–68.
- Любомудров А. М. Духовный реализм как отражение религиозной культуры в художественной литературе // Вестник славянских культур. 2008. № 1–2 (9). С. 113–120 [Электронный ресурс]. URL: http://vestnik-sk. ru/russian/archive/2008/1-2/literaturnyij-diskurs-v-kontekste-kulturyi/duxovnyij-realizm-kak-otrazhenie (11.05.2023).
- Мещерякова М. И. Русская детская, подростковая и юношеская проза 2-й половины XX века: проблемы поэтики. М.: Мегатрон, 1997. 381 с.
- Никольская Т. В. Особенности рецепции образа священнослужителя в повестях В. Крапивина «Крик петуха» и «Синий город на Садовой»: мат-лы VII Междунар. конф. молодых ученых. Екатеринбург: УрГПУ, 2018. Вып. 13. С. 170–173.
- Редькин В.А. Духовный реализм как художественный метод современной литературы // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 1. С. 71–78 [Электронный ресурс]. URL: https://sciup.org/duhovnyj-realizm-kak-hudozhestvennyj-metod-sovremennoj-literatury-146278406 (02.05.2023).
- Сергиенко И. А. «Формула Крапивина»: сюжетная модель реалистической прозы Владислава Крапивина 1960–1980-х годов // Сюжетология и сюжетография. 2019. № 2. С. 151–165 [Электронный ресурс]. URL: https://www.philology.nsc.ru/journals/sis/article.php?id=251 (12.05.2023). DOI: 10.25205/2410-7883-2019-2-151-165