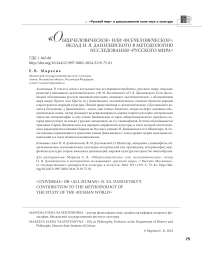«Общечеловеческое» или «всечеловеческое»: вклад Н. Я. Данилевского в методологию исследования «русского мира»
Автор: Мареева Е.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: «Русский мир» в дискуссионном поле наук о культуре
Статья в выпуске: 3 (119), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье в связи с актуальностью исследования проблемы «русского мира» показано различие в понимании «всечеловеческого» у Ф. М. Достоевского и Н. Я. Данилевского. Если Достоевский, обосновывая русскую национальную идею, связывает «всечеловеческое» с объединением мира вокруг Христа и во Христе, то у Данилевского «всечеловеческое» означает единство народов в пространстве мировой культуры. Почвой представления о «всечеловеческом» у Достоевского является богословие, у Данилевского наука, еще точнее, биология, откуда он берет основные объяснительные схемы. Автор указывает на неправомерность оценки теории культурно исторических типов как историософии в силу отказа Данилевским от идеи «общечеловеческого» прогресса, которая присутствует не только у русских западников, но и у славянофилов. В статье обосновывается трактовка теории Данилевского как варианта морфологии культуры, в свете которой сопоставляются характеристики влияния Европы на Россию в учениях Н. Данилевского и О. Шпенглера. В статье показана ограниченность трактовки учения Данилевского с точки зрения теории локальных цивилизаций и в свете позиции изоляционизма.
Н. я. данилевский, ф. м. достоевский, о. шпенглер, западники, славянофилы
Короткий адрес: https://sciup.org/144163094
IDR: 144163094 | УДК: 1-043.86 | DOI: 10.24412/1997-0803-2024-3119-75-81
Текст научной статьи «Общечеловеческое» или «всечеловеческое»: вклад Н. Я. Данилевского в методологию исследования «русского мира»
«Крестным отцом» Русского мира авторы статьи «Многообразие трактовок понятия «русский мир»» (Вестник МГУКИ, 2024, № 1) назвали П. Я. Данилевского, который придал идее исключительности русского человека и уникальности русской культуры новое звучание. Другим основоположником идеи «русского мира» назван Ф. М. Достоевский, который уточняет предназначение русского человека и, вслед за славянофилами, видит его в спасении мира через его единение. «Национальная идея русская, – отмечает Достоевский в объяснительном слове по поводу речи о Пушкине, – есть, в конце концов, всемирное общечеловеческое единение» [4, с. 131]. Особенность русского народа таким образом состоит в том, что он силой православной веры может собрать все народы, весь мир воедино.
В приведенной выше цитате из «Дневника писателя» Достоевского слова «общечеловеческое» и «всечеловеческое» выглядят синонимами. Но не так по сути. «Всечеловеческое» в координатах Пушкинской речи Достоевского никак не соотносимо с совре- менными «общечеловеческими» смыслами и ценностями. Уникальность русского народа, связанная и с соборностью, и с его «всемирной отзывчивостью», состоит в способности объединить мир вокруг Христа и во Христе, что, собственно, и есть специфическое содержание представления о «всечеловечестве» и «всечеловеческом» в традиции, идущей от Достоевского. Русский народ, в отличие от других, способен выразить идею «всечело-вечности» и воплотить ее во вселенском масштабе. Но так ли у Данилевского, который, подобно Достоевскому, указывает на «всечеловеческое», решая вопрос о своеобразии «русского мира»? Чем «всечеловеческое» отличается от «общечеловеческого» в теории культурно-исторических типов?
***
Н. Я. Данилевский, безусловно, был православным человеком. Но это не определило сути его представлений о назначении России, как не повлияло и на методологию построения учения о культурно-исторических типах, основу которого, как известно, составили его естественнонаучные представления о развитии органического мира. Совпадая с Достоевским в целом идеологически, Данилевский, безусловно, расходится с ним теоретически, если, конечно, возможно говорить о системности понимания Достоевским путей развития России. Почвой представления о «всечеловеческом» у Достоевского является богословие, у Данилевского – наука, еще точнее, биология, откуда он берет основные объяснительные схемы.
Последователь Данилевского философ и публицист Н. Н. Страхов указывал на существенные отличия учения Данилевского и от его предшественников-славянофилов. В статье «Жизнь и труды Н. Я. Данилевского» он называет работу «Россия и Европа» «катехизисом» славянофильства, «кульминационной точкой» в развитии этого направления [10, с. 760]. Но совпадая с основоположниками славянофильства в идее самобытности русского мира, Данилевский расходится с И. В. Киреевским, А. С. Хомяковым и другими «старшими» славянофилами в понимании места России в жизни всего человечества. Расходится Данилевский с ними и в способе построения теории культурно-исторических типов, который Страхов считал безусловно научным со своей особой «новой доказательностью» [10, с. 763].
Проясняя указанные различия, Данилевский делает акцент на гуманитарном и философском контексте первой половины XIX века, в котором формировались взгляды основоположников славянофильства. Вторым источником их мировоззрения он считал внимательное изучение всего строя русской жизни. «Учение славянофилов было не чуждо оттенка гуманитарности, – пишет он в шестой главе работы «Россия и Европа», – что, впрочем, иначе и не могло быть, потому что оно имело двоякий источник: германскую философию, к которой оно относилось только с большим пониманием и большей свободой, чем его противники, и изучение начал русской и вообще славянской жизни – в религи- озном, историческом, поэтическом и бытовом отношениях» [2, с. 290].
Но не менее, а может и более важным является выраженное здесь же критическое отношение к вере в то, что «славянам суждено разрешить общечеловеческую задачу», на что не способны другие народы. «Такой задачи, однако же, – продолжает он, – вовсе и не существует … по крайней мере в том смысле, чтобы ей когда-нибудь последовало конкретное решение, чтобы когда-нибудь какое-либо культурно-историческое племя ее осуществило для себя и для остального человечества» [2, с. 290]. Иначе говоря, отрицая указанную миссию русского народа, Данилевский упраздняет саму суть русской национальной идеи, которая у славянофилов и Достоевского имела религиозно-эсхатологическое измерение. И это достаточно существенное расхождение между Данилевским и Достоевским, которое нельзя игнорировать там, где речь идет о формировании и перспективах развития «русского мира».
Указание на связь идей славянофилов с германской философией начала XIX века здесь не случайно. Эта философия, подчеркивает Данилевский, игнорируя особое и относительное, сделала ставку на абсолютное. Понятно, что речь идет, прежде всего, об абсолютном идеализме Гегеля с его историософскими построениями, которые не близки Данилевскому как умозрительные и предписывающие общую логику развитию самых разных стран. И надо сказать, что при всей масштабности и нетривиальности философии истории Гегеля в ней нашла свое выражение логика европоцентризма. Не лишена этой логики и марксистская теория обцественно-экономических формаций в том виде, в каком она фигурировала в СССР под названием «истмата». И это при том, что указанная точка зрения была преодолена «поздним» Марксом при изучении цивилизаций Востока.
Значительное место в работе «Россия и Европа» занимает критика идеи единого пути развития человечества и общечеловеческого прогресса, который по праву сильно- го присвоили себе европейцы. Данилевский объявляет искусственным и ложным представление о том, что Запад в своей истории впервые реализовал универсальные формы общественного прогресса, а потому его путь должны повторить все народы, что, кстати, повлияло как на западников, так и на славянофилов. Но, если западники считали закономерным включение России в «общечеловеческое» движение в лице Европы, то славянофилы, обнаруживая изъяны в таком движении, предлагали перенаправить его в нужное русло.
Критикуя представление об «общечеловеческом» пути, совпадающем с развитием Европы, Данилевский считает его односторонним, некой тощей, неистинной абстракцией, которая не способна выразить реальное богатство исторической жизни народов. Абстракцию «общечеловеческого» он отождествляет с сутью историософских представлений, в отличие от того, что в его теории выразит понятие «всечеловеческого». Как известно, Данилевский пытался противостоять принципу однонаправленной эволюции и в области биологической науки, где этот принцип, по мнению Данилевского, реализовал дарвинизм. В вопросе развития жизни на Земле ему ближе были взгляды Жоржа Кювье. Вот почему учение Данилевского не стоит считать историософией в собственном смысле этого слова. Противопоставляя понятию «общечеловеческого» «всечеловеческое», он наполняет его принципиально иным смыслом, сдвигаясь от популярных разновидностей историософии в сторону морфологии культуры, наиболее последовательно реализованной в дальнейшем у О Шпенглера.
-
Н. Данилевский, как ученый, ставит во главу угла исторические факты, пытаясь понять их собственную связь. Но, будучи, прежде всего, ботаником и зоологом, он исходит из методологии эмпирической науки, опираясь на приемы обобщения, аналогии и классификации. Достоинством своего учения о культурно-исторических типах Данилевский считает осуществленную в нем
«естественную» методологию применительно к историческому знанию. Тем не менее, этому учению не чужды умозрительные схемы. Крайности эмпиризма и спекулятивности обычно сходятся. На методологические недостатки теории Данилевского подробно указывает в своей рецензии в «Русской мысли» (1889, № 9) известный русский историк и социолог Н. И. Кареев, уделяя особое внимание пятой главе книги «Россия и Европа», в которой идет речь о некоторых законах развития культурно-исторических типов [5].
Данилевскому, безусловно, не хватало той гуманитарной и философской образованности, которой он сознательно противопоставил свои знания в области естествознания. Слабое владение Данилевским выработанной в классической философии диалектической методологией вынуждает нас сопоставлять абстракции «общечеловеческое» и «всечеловеческое» там, где речь идет об абстрактнообщем и конкретно-всеобщем знании о предмете. А там, где речь обычно идет об анализе культуры в свете соотношения всеобщего, единичного и особенного, Данилевский склонен проводить параллели с родо-видовыми отношениями в органическом мире.
И, тем не менее, у Данилевского, как и везде в истории общественной мысли, следует различать живое и мертвое, а, чаще всего, это новое, выраженное в неадекватной или устаревшей форме. Так штампом стало определение учения Данилевского как разновидности теории локальных цивилизаций, что сочетается с изоляционизмом как социальнополитическим выражением такой постановки вопроса. В упрощенной форме локальное – это антипод глобального, что означает обособленность и отсутствие какого-либо взаимодействия и взаимовлияния, в данном случае между множеством цивилизаций. При такой постановке вопроса своеобразие локальных цивилизаций постулируется, чего мы не видим в книге Данилевского «Россия и Европа», суть которой составляет как раз анализ взаимовлияний народов, из чего, собственно, и вырастает их самобытный облик.
Данилевский не в состоянии обосновать внутреннее единство и своеобразие каждой культуры на почве той новой культурноисторической методологии, которую активно вырабатывали философия и общественная наука в XIX веке. Потому он и в этом вопросе мыслит как ученый-позитивист, избегая хаоса во взаимовлияниях культур за счет методологии органицизма. Некоторые общие черты и этапы в развитии культур Данилевский толкует организмически, утверждая, что уникальность каждого культурного организма определяется тем, как он проходит закономерные ступени роста, расцвета и увядания.
На этапе, который Данилевский называет «этнографическим», мы имеем дело только с ростом, которому соответствует народноплеменное состояние культуры, где, однако, уже закладываются некоторые своеобразные черты. Здесь племена еще «не составляют генетически самобытных единиц». Только в итоге тысячелетий, пишет Данилевский, эти «оса-мобытившиеся группы», получившие не только «характеристический наружный облик», но и «особый психический строй», становятся основанием для уникального культурноисторического образования [2, с. 296].
Именно на втором этапе, на пути к расцвету, народ входит в «цивилизованное состояние», обретая свою неповторимость, в том числе, под внешними влияниями, которые Данилевский подразделяет на три способа. Первый способ он определяет как «колонизацию», по аналогии с тем, как распространяли свою культуру древние греки, второй – как «прививку», подобно тому, как это делают в селекции, когда материнская культура питает чужеродные плоды. Но наиболее перспективным, по мнению Данилевского, является третий путь, названный «удобрением», когда достижения чужой культуры питают народную почву, помогая вызреть своеобразию данного культурно-исторического типа.
Понятно, что все указанные методологические предположения и обоснования служат предпосылкой ответа на вопрос о своеобразии влияния Запада на Россию, кото- рое, с точки зрения западников, должно быть «колонизацией», а у славянофилов подобно «прививке». Но еще интереснее ответ на данный вопрос, который был дан через полвека О. Шпенглером, который определил отношение Запада к России как «псевдоморфоз».
Суть псевдоморфоза как «поддельной формы» Шпенглер объясняет через несоответствие внутренней структуры и внешней формы. Что касается исторических псевдо-морфозов, то к ним Шпенглер относил «случаи, когда чуждая древняя культура довлеет над краем с такой силой, что культура юная, для которой край этот – её родной, не в состоянии задышать полной грудью и не только что не доходит до складывания чистых, собственных форм, но не достигает даже полного развития своего самосознания» [11, с. 647]. Таковой у Шпенглера являлась Россия, начиная с реформ Петра Первого и до революции 1917 года.
И «прививка» у Данилевского», и «псевдоморфоз» у Шпенглера означают то, что западное влияние в том виде, в каком оно осуществлялось, начиная с реформ Петра Первого, тормозило развитие «русского мира», не позволяя сформироваться его чистым формам и самобытному самосознанию.
При этом самобытность России Шпенглер, как и Данилевский, увязывают с ее религиозной жизнью. Основанием славянского культурно-исторического типа, часть которого составляет «русский мир», является наследие Византии. Но конкретное сочетание сторон в этом новом культурном организме обнаружит только будущее.
***
Политическая ситуация может способствовать представлениям о Н. Я. Данилевском как однобоко мыслящем антиподе западной цивилизации. Но этому противоречит его представление о «всечеловеческом» как о единстве, которое означает не столько единство верующих во Христе, сколько единство народов в пространстве культуры. Если «общечеловеческий» путь развития – ложная и однобокая абстракция, то «всечеловеческое» у Данилевского – это истинная научная абстракция, выражающая систему сложных взаимодействий между народами как культурными организмами. «Всечеловеческое» – не множество обособленных цивилизаций, а мировая культура как целое, несущее в себе единство многообразия.
Общие моменты в морфологии культуры у Н. Я. Данилевского и О. Шпенглера – особая тема. Важно, однако, обратить внимание на то, что у обоих присутствует проблема «физиогномики» культуры как особого сочетания элементов вокруг того, что именуют ее «душой». И то же сочетание усилий, пишет Данилевский, характеризует мировую культуру, где результаты труда каждого народа «остаются собственностью всех других народов, достигающих цивилизационного периода своего развития, и труда этого повторять незачем» [2, с. 301].
Народы дополняют и развивают друг друга. Науки о природе – плод германо- романской цивилизации, величайшее развитие искусств – плод Древней Греции, политическую организацию и право довел до совершенства Древний Рим, тогда как идея единого истинного Бога, отмечает Данилевский, плод цивилизации еврейской. Все указанные цивилизации, кроме германо-романской, уже завершили жизненный цикл. Их вклад во «всечеловеческую» культурную сокровищницу известен. Но будущее славянского культурноисторического типа, к которому принадлежит Россия, открыто.
России, по Данилевскому, не предзада-на роль спасителя. Но Россия и не закрыта от мира, в котором, развернув возможности своего культурно-исторического развития, должна занять достойное место. Н. Я. Данилевский избавлен от иллюзий славянофилов. Но он избавлен и от идеи изоляционизма, подтверждая тем самым, что теория культурно-исторических типов достойна дальнейшего изучения в контексте отечественной и мировой общественной мысли.
Список литературы «Общечеловеческое» или «всечеловеческое»: вклад Н. Я. Данилевского в методологию исследования «русского мира»
- Бестужев-Рюмин К. Н. Теория культурно-исторических типов / Данилевский Н. Я. Собрание сочинений: в 5 томах. Т. 1. Селятино: ИРСИ. 2022. С. 769-813.
- Данилевский Н. Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому / Данилевский Н. Я. Собрание сочинений: в 5 томах. Т. 1. Селятино: ИРСИ. 2022. С. 185-668.
- Данилевский Н. Я. Горе победителям. Политические статьи / Вступительная статья, примечания, приложение А. В. Ефремова. Москва: «АЛИРь, ГУП «ОБЛИЗДАТ», 1998. 416 с.
- Достоевский Ф. М. Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине. Дневник писателя. 1880 / Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 томах. Т. 26. Ленинград: Наука, 1984. С. 129-136.
- Кареев Н. И. Теорiя культурно-историческихъ типовъ (Н. Я. Данилевскш: «Росоя и Европа. Взглядъ на культурныя и политичесюя отношенiя славянскаго мiра къ романо-германскому. Издаше четвертое. Спб., 1889 г.). URL: http://az.lib.rU/k/kareew_n_i/text_1889_.shtml
- Кот Ю. В., Кудрина Е. Л. Многообразие трактовок понятия «русский мир» // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. Научный журнал. 2024. № 1 (107). Январь-февраль. С. 15-20.
- Маджаров А. С. Освальд Шпенглер и русская историография XIX в.о специфике (псевдоморфозе) русской истории / Известия Иркутского государственного университета. Серия «История». 2012. № 1 (2). С. 176-187.
- Мареева Е. В. Русский европеизм и его исторические типы в свете диалектики особенного // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. Научный журнал. Сентябрь-октябрь. 2023. № 5 (105). С. 17-33.
- Смирнов А. В. Общечеловеческое и всечеловеческое, или чему сегодня нас может научить Н. Я. Данилевский / Россия в диалоге культур / отв. ред. А. А. Гусейнов, А. В. Смирнов, Б. О. Николаичев. Москва: Наука, 2010. 432 с.
- Страхов Н. Н. Жизнь и труды Н. Я. Данилевского / Данилевский Н. Я. Собрание сочинений: в 5 томах. Т. 1. Селятино: ИРСИ. 2022. С. 750-768.
- Шпенглер О. Закат Западного мира / Освальд Шпенглер. Москва: Альфа-книга, 2010. 1085 с.