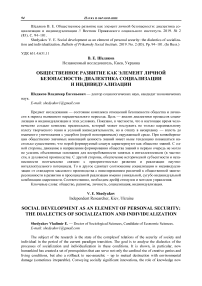Общественное развитие как элемент личной безопасности: диалектика социализации и индивидуализации
Автор: Шедяков В. Е.
Журнал: Вестник Прикамского социального института.
Рубрика: Наука и образование
Статья в выпуске: 2 (83), 2019 года.
Бесплатный доступ
Предмет исследования — состояние комплекса отношений безопасности общества и личности в период нынешнего парадигмального перехода. Цель — анализ диалектики процессов социализации и индивидуализации в этих условиях. Показано, в частности, что в настоящее время человечество создало комплекс предпосылок, который может послужить не только кардинальному взлету творческого гения и условий жизнедеятельности, но и откату в неоархаику — вплоть до взаимного уничтожения с ущербом (порой непоправимым) окружающей среде. При конвейеризации общественно значимых инноваций ценность знаний имеет ныне тенденцию повышаться настолько существенно, что порой формируемый социум характеризуют как общество знаний. С одной стороны, движение в направлении формирования общества знаний в первую очередь не могло не усилить объективные основания для востребованности занятых в интеллектоемком (в частности, в духовном) производстве. С другой стороны, обеспечение исторической субъектности и независимости неотъемлемо связано с приоритетностью развития и реализации научно-интеллектуального потенциала. То и другое сдвигает соотношение социализации и индивидуализации от стандартов массового производства с нивелированием различий к общественной заинтересованности в развитии и просоциальной реализации именно уникальной, сугубо индивидуальной комбинации одаренности. Соответственно, необходим дрейф стимулов и методов управления.
Общество, развитие, личность, социализация, индивидуализация
Короткий адрес: https://sciup.org/14126897
IDR: 14126897 | УДК: 631.4:631.11
Текст научной статьи Общественное развитие как элемент личной безопасности: диалектика социализации и индивидуализации
-
V. E. Shedyakov
Independent Researcher, Kiev, Ukraine
SOCIAL DEVELOPMENT AS AN ELEMENT OF PERSONAL SECURITY: THE DIALECTICS OF SOCIALIZATION AND INDIVIDUALIZATION
Обеспечение личной безопасности связано с качеством общественного состояния, оно же меняется на глазах. Постглобальное втягивание в общество знания имеет характер всеобщей закономерности и подчиняет себе вне зависимости от осознания и желаний. Меняется основной вектор направленности и региональные отличия движения между материальным и нематериальным, реальным и виртуальным, телесным и духовным. Трансформируются требования к человеку и обществу, условиям их жизнедеятельности. Исчезает стабильность как социально-политического, так и природного остова жизнедеятельности. Когда же нет постоянства внешней опоры в виде общей идеологии, единственной культуры, стереотипной науки, тогда необходимо признавать и право на существование непохожего, особенного, необычного и готовиться к множественности выбора, непредрешенности жизненного пути и общественного развития. Отсюда — значимость «иначемыслия» как важнейшего общественного ресурса, который гигантски усложняет общественное регулирование и отделение возможного от вредоносного [8; 10; 12]. Включение в социокультурное пространство становится осознанным личностным выбором, становлением как гражданственности, так и общественных отношений.
Между тем преодоление препятствий — неотъемлемый элемент развития личности и общества. Развертывание потенциала происходит в решении задач, в том числе в победе над разнообразными сложностями. Навязывание идеалов «экстремального комфорта» на основе ценностно-смысловых комплексов вокруг эмансипации звериных инстинктов, тяги к праздности и развлечениям либо стяжательству/накопительству, подмена трудностей развития иллюзией жизни губительно не только для человека, но и для конкретного культурно-цивилизационного мира. Духовное, душевное и интеллектуальное напряжение, их эмоциональное и рациональное измерения — элементы не только психического становления отдельного человека, но и социокультурного основания конкуренции культурноцивилизационных миров. Соответственно, разрыв в уровнях их развития таит опасности для общества и отдельного человека. Во время форсированного перехода к новой общественной парадигме личная безопасность заведомо не может опираться на стабильность как прежних, так и новых устоев: прошлое перестало быть, будущее не сформировано. Более того, противостоят и разные модели грядущего. Актуальной оказывается задача обеспечения развития без предательства своего прошлого. Как раз напротив: именно прошлое дает многие совершенно необходимые основания устремленности в достойное будущее. Стремительность парадигмальных изменений кардинально трансформирует и требования к качеству (в частности, своевременности, которая всё более предполагает «игру на опережение») ответов на возникающие вызовы. Между тем среда гиперконкуренции в причинах угроз безопасности переплетает объективные факторы и субъективно формируемые извне и внутри. Соответственно, постглобальный межпарадигмальный скачок означает уже не просто переход политико-экономического лидерства от одного государства к другому, а смену типа структурирования и приоритетов [4–6]. Собственно, конкурентная борьба идет отнюдь не за более точное и своевременное овладение какой-либо одной моделью, а между кардинально разными подходами. Переходный межпарадигмальный период — это и «возвращение к себе», и проведение модернизации на своей собственной основе. Конечно, да, переход — это всегда модернизация, однако новая модернизация — отнюдь не вестернизация. При этом некоторые из ценностных и поведенческих иерархий не соответствуют застарелым канонам внешнего восприятия.
Гармонизация состояний совокупного общественного богатства — необходимое условие и его органичного, устойчивого и продуктивного развития, и безопасности человека. Между тем значение различных форм богатства при разных условиях социальноэкономического воспроизводства подвижно. И выращивание будущего — как определяющих точек развития, так и стимулирующей его общественной среды — предполагает учет характера трансформаций прежде всего главных параметров и факторов общественного богатства (в частности, капитала). С усилением значения интеллектуально-духовной сферы развития соответственно нарастает и ее удельный вес в общественном богатстве, настолько, что собственно капитальные формы накопления перестают соответствовать задачам развития и безопасности, в частности, тормозя развертывание сущностных сил [1; 2].
Так, среди разнообразия характеристик приходящей эпохи выделяются связанные с нарастанием духовного производства и интеллектоемкого творчества: они не просто формируют оси дальнейших трансформаций, но и в существенной мере задают саму их среду. Между тем для ризомического развития (где заведомо непредопределяем потенциал каждой «почки» социально-экономических трансформаций) именно это обстоятельство способно стать решающим. Осуществленный с переходом от Традиции к Модерну сдвиг общественно необходимой концентрации рабочей силы из сферы сельского хозяйства в промышленность ныне сменяется запросом на творчество (прежде всего интеллектуальное). И чем более энергетические и мускульные функции становятся прерогативой сначала механизмов, затем машин, а потом и роботосистем, тем сильнее заинтересованность в концентрации человека на творчестве (прежде всего интеллектуальнодуховном). Таким образом, именно комбинации творческих задатков, сугубо личностные по своей сути, оказываются наиболее ценной (и потому общественно востребуемой) частью социальной активности [3; 9; 12; 14].
Между тем творчество по своему характеру «не-труд» и предполагает иные сочетания мотиваций. Исходя из этого как отчужденный труд рождает и делает массовидным феномен «человека экономического», так свободное самодеятельное творчество воспроизводит и делает общественно необходимым «человека творческого», радикально меняя поведенческие приоритеты и механизмы детерминации, усиливая специфику соотношения макро- и микрофакторов развития экономических отношений, повышая требования к свободе и ответственности людей на основании народных традиций, исторического опыта и социального наследия. Отсюда, соответственно, общественная потребность в постоянном мотивировании и обучении при акценте на воспитании характеристик «человека разумного», а не «человека умелого», в экономическом поведении — не «человека экономического», а «человека творческого», не «потребителя» или «пройдохи», а «созидателя», с формированием и комплексной, стимулирующей желательные изменения общественной среды, и кластеров развития [11; 13]. Между тем для достижения свободы необходимо становление ответственности и самодисципли-ны/самоограничения. Человек, полностью разложимый на производителя и потребителя, отчужден как от деятельности, так и от жизни. Противопоставление производства — потребления, времени труда и досуга преодолевается свободой творческого самовоплощения (прежде всего в труде и управлении). Так, в творчестве и необходимость становится под- чиненным элементом развития и реализации. Творчество становится не только идеально всеобщим, но и реально всеобщим фактором воспроизводства. Система принуждения — экономического или внеэкономического — закабаляет, закрепляя специализацию каждого при отборе случайных для самого индивида способностей и потребностей. Вместе с тем случайность этого предпочтения делает его эффективность частной, в общественном же масштабе утрачивается наиболее ценный — именно творческий — потенциал. Творчество отрицает принуждение. Однако отчуждение — принудительная социализация в неприсущих человеку формах — общественно необходимо до создания адекватного материального и духовного фундамента самораскрытия человека. При этом необходимость раскрывает потенциал свободы; всеобщность/тотальность отчуждения акцентирует иррационально-превращенные формы реализации творческой одаренности человека.
С одной стороны, счастливый, нашедший свое место в жизни и ведущий деятельность на условиях, отвечающих представлениям о справедливом и нормативном, состоявшийся как личность человек и трудится, и проявляет себя в прочих сферах самореализации совершенно иначе, нежели отчужденный, отверженный, общественно ограниченный индивид. Соответственно, у человека меняются его цели, ценности, интересы, стимулы, заинтересованность и т. д. В этих условиях дополнительные вложения в человека — это вовсе не обременительная социальная нагрузка, а непременное условие качественного участия в конкурентной борьбе на верхних этажах экономики, где место экономии на переменном капитале в качестве магистрального направления получения стратегического выигрыша занимает творческий интеллектоемкий труд, требующий тщательной подготовки и обеспечения. С другой стороны, по известной формуле «есть покой и воля», да и самоуспокоенность — душевная подлость, снижающая тонус духовного поиска. В этом контексте духовная и физиологическая сытость, моральное и физическое потребительство — этапы мещанства, элементы обезличивания, умирания творческой личности. Новое рождается в неуспокоенности. Опасность, риск отнюдь не заставляют прекратить творчество, а зачастую стимулируют его; трагедии выращивают из дарования настоящую величину.
Вместе с тем принципиальная постглобальная развитийная плюральность мультиплицирует историческую непредрешенность, в частности зависимость результата от качества субъектности. При этом диалектика опредмечивания — распредмечивания в человеческой жизнедеятельности позволяет оптимизировать формы интеграции, вырабатывая общественно и индивидуально приемлемые механизмы партнерства. Соответственно, серия неправильных выборов может привести страну в тупик деградации, элементом которого становится, например, «дурная бесконечность», «колесо инферно». И если путанику свойственно ошибаться, то манипулятору — навязывать путь ошибок. Вместе с тем для некоторых элементов хозяйственной структуры именно закрытость и является фактором фиксации отсталости, а обособленность — фактором внешней манипулируемости. Причем достигнутый уровень совокупного физического и ментального потребления и выделяемых отходов, характерный для привилегированных ныне регионов, даже близко не может быть распространен на всех из-за уровня давления на среду обитания, однако и сохранять анклавы комфортной жизни среди эксплуатируемых регионов всё сложнее, прежде всего из-за процессов природной и социальной диффузии. Соответственно, трансформируется комплекс проблем по обеспечению обществом существования и функционирования в условиях «стабильной нестабильности», когда может «проснуться», открыв решающее направление развития как внутреннего, так и внешнего воздействия, любая «почка» ризомы. Способность к устойчивости и изменению культурно-цивилизационных миров во многом определяется сплетенностью (в частности, под влиянием исторического опыта, социокультурного наследия и ментальных матриц народа) объективных и субъективных факторов структурирования, формирующих разнокачественные обратные связи и отношение к творчеству (индивидуальному и массовому, в труде и управлении). Отсюда — важность перехода от отношений «начальник — подчиненный» к отношениям «коллега — коллега», от администрирования к умению убеждать и заинтересовывать. Более того, победа в конкуренции становится функцией от активизации/развития своего научно-интеллектуального потенциала и умения оперировать чужим. Поэтому раскрытие роли интеллектуальнодуховной загрузки содержания процессов опредмечивания-распредмечивания на категориальном (а не бытовом) уровне требует внимания к распространению когнитивного использования потенциала понятий субъектного начала и субъектных отношений. Естественный практико-теоретический интерес вызывает подход, в соответствии с которым субъектное отношение может быть вполне объективным, полностью материальным, массовидным и существующим независимо от того, как оно отражено в сознании людей. Но отличается от «чисто» объективного тем, что непременно должно пройти для своей реализации через сознание. Например, анализ отчуждения осуществляется в виде исследования именно субъектного отношения [7, с. 12–22].
Так, необходимость приобретения «природоподобия», умения жить в гармонии с окружающей средой (в том числе общественной) и объективные условия выхода на новые рубежи киберсоциализации переплетаются с субъектностью преобразований, в рамках которой и формируется ответ на вопрос, в чьих интересах и за чей счет произойдут изменения. Переходный к новой парадигме период требует не только поддержания гармонии между экономическим ростом и социальными стандартами жизнедеятельности, но и решения задач как укрепления фундамента (в частности, ценностно-смыслового) для будущего, так и сохранения настоящего, что, в частности, выражается в балансе стратегии и тактики, сверхпроекта и многочисленных малых проектов. Ядром (пере)формирования социокультурного пространства становятся ценностно-смысловые комплексы — духовнонравственные и мировоззренческие структуры, включающие в себя социальные элементы, как кросс-культурные, так и специфические для каждого конкретного культурноцивилизационного мира; содержание которых тесно связано с особенностями ценностных иерархий при реализации ценностных коррелятов в системе оценки. Одним из ведущих факторов становления социокультурного простора является сверхпроект развития, рождающий чувство сопричастности и гордости за совместные общественные свершения, а также позволяющий как найти свое место в нем, так и осуществлять развитие своих сущностных сил. При этом общественный сверхпроект консолидирует «дух эпохи» и определяет субъектность изменений, а социокультурная общность как целое становится субъектом рефлексивных отбора вариантов и оценки социального поведения. Внутренняя структура культурно-цивилизационных миров определяется исторической чередой сверхпроектов, сосредоточивающих в себе сущность их порывов исторического творчества.
Соответственно, и социальное управление следует от жесткости к мягкости и «дружелюбию», от массовости к компактности, от детерминированности технологией к выбору технологий, от определенности организационных границ к их размытости и подвижности. Развитие личности и персонализация деятельности вместо нивелирования людей и усреднения функций становятся наиболее эффективным фактором эффективных социальных технологий. Вместе с тем и на острие отчуждающих сил всё более закономерно находятся творческие (в частности, интеллектуально-духовные) задатки индивида. Модели мировоззрения, жизнеустройства и развития предполагают либо доверие к человеку и развитие его просоциального творчества (прежде всего в деятельности и управлении), либо манипулирование массы элитой, что наиболее остро проявляется в антагонизме народовластия и олигархата, следовательно, векторов суверенитета и компрадорства. Соответст- венно, общество и государство в состоянии стимулировать тот или иной выбор. Гармонизация индивидуального и социального, баланс составляющих открытости и закрытости, возможностей пострыночного механизма и публично-приватного взаимодействия предусматривает при этом формы сочетания энергии частной инициативы и предпринимательства с гибким государственным регулированием. Так, например, очевидно, что высвобождение человека от мелкой коммунально-бытовой рутины — серьезный шаг к усилению потоков развития и реализации его сущностных сил в общественно-полезном творчестве (прежде всего интеллектуально-духовном). Соответствующим образом и постсовременное видение государства общего блага предполагает отнюдь не ориентацию на скопление разнообразных социальных иждивенцев и их обслуги, а активную поддержку творчества (прежде всего интеллектуально-духовного) с реализацией приоритета человека, его прав и свобод; социальной справедливости, то есть социального равенства людей в правах и возможностях; солидарности, понимаемой как выражение соборной общности человечества и сочувствия к жертвам несправедливости. Характер постглобализма оказывается восприимчив к социальным комбинациям потребительского самоограничения в пользу творческого процесса и индивидуальной самодисциплины ради реализации сущностных сил. И конечный вектор изменения образа жизни всё в большей мере формируется под воздействием общественного выбора: творить или вытворять, действовать в соответствии с логикой развития мира или же под определяющим влиянием субъективных прихотей.
Природа же рефлексивного понимания и управления требует внимания и учета качеств не только объективной, но и субъективной составляющей исторического процесса, в частности деятельных и возможных участников, актива и пассива перемен, союзников и противников, их структурной и функциональной определенности. Безопасность и развитие обеспечиваются функционированием контуров координации и самоуправления, системность которых предопределяет характер и качество ответов социальной целостности на внутренние и внешние вызовы. При этом децентрация управления как соответствующая процессам нарастания диффузии знаний, умений и навыков повышает устойчивость не только системы управления, но и всей общественной целостности, вызывая активизацию иммунных сил социального организма. Продуктивные пути социально-экономического развития предполагают воспроизводство органичных общественных форм. С одной стороны, попытки «пришпорить» историю могут спровоцировать переход к реализации затратных вариантов существования и роста, при которых достижение результатов и оказывается сопряженным с надрывом производительных сил общества, и становится мимолетным, зачастую вовсе отторгаясь последующим ходом социально-политических процессов. С другой — существуют и возможности оптимизации хода трансформаций, и исторически обусловленные ресурсные базы, и методологии воздействия на процессы общественного развития. Изменчивость тех и других испытывает серьезное влияние со стороны тенденций к усилению постсовременных признаков общественной среды, предоставляя дополнительные шансы для осуществления как позитивных, так и негативных мутаций общественного организма.
Противоборствующие тенденции гуманизации/расчеловечивания распространяются на процессы как индивидуализации, так и социализации. Реализация потенциала восходящей волны метаморфоз при этом, очевидно, связана с всесторонним очеловечиванием общественных отношений. Вместе с тем реализация принципов гуманизма предполагает необходимость как приращения совокупного социально-экономического капитала, так и отсутствия резкого перепада в его распределении в обществе. По-прежнему существуют два мощных приоритета социально-экономического развития и определяющие показатели общественного прогресса. Во-первых, жизнь человека, ее качество и длительность. Во- вторых, достижения цивилизации, культурное наследие. Первое направление фиксируется прежде всего корзинами социально-экономических, политических и духовноидеологических прав человека, его уверенностью в завтрашнем дне, возможностями самореализации и т. п. Государство и власть состоятельны в том случае, если могут обеспечить безопасность, развитие и реализацию творческих возможностей каждого. Заново актуализируется выбор: обеспечение государством полноты реализации эгоистических, узкокорыстных интересов некоторых или же решение гораздо более широких задач с опорой в том числе и на частную заинтересованность, и на индивидуальную творческую инициативу. Динамизм же и направленность формообразования зависят от качества исторической череды сверхпроектов, которые могут заметно изменяться, перенимая черты всё новых носителей. Сутью некоторых из них может стать в том числе и отрицательная моральная сила агрессии, уничтожения, завоевания, которая, тем не менее, рано или поздно уничтожает себя и искушенных собою.
Таким образом, ныне человечество создало комплекс предпосылок, который может послужить не только кардинальному взлету творческого гения и условий жизнедеятельности, но и откату в неоархаику — вплоть до взаимного уничтожения с ущербом (порой непоправимым) окружающей среде. При конвейеризации общественно значимых инноваций значимость знаний имеет ныне тенденцию повышаться настолько значительно, что порой формируемый социум характеризуют как общество знаний. С одной стороны, движение в направлении формирования общества знаний не могло не усилить объективные основания для востребованности занятых в интеллектоемком (в частности, в духовном) производстве. С другой стороны, обеспечение исторической субъектности и независимости неотъемлемо связано с приоритетностью развития и реализации научно-интеллектуального потенциала. То и другое сдвигает соотношение социализации и индивидуализации от стандартов массового производства с нивелированием различий к общественной заинтересованности в развитии и просоциальной реализации именно уникальной, сугубо индивидуальной комбинации одаренности. Это, соответственно, предполагает дрейф продуктивности стимулов и методов управления и, в свою очередь, требует организационно-управленческой коррекции. Так, зачастую формально-демократический фасад и привлекательная витрина государства скрывают возможности и поддерживать социальный мир, и карать бросающих действительно серьезный вызов. Увеличивается и мощность потоков средств общества в частные карманы, воспроизводя механизмы и формы так называемой «всеобщей частной собственности». Однако возможности государства не должны превращаться в достояние его фаворитов, в частности в собственность топ-менеджеров. Следовательно, в предотвращении негативных сценариев возрастает роль не только трудовой, но и контрольноуправленческой активности народных масс, к чему население необходимо готовить и чему надо учить. Разумеется, богатство страны — функция не столько ресурсных возможностей, сколько качества их использования. Соответственно, кардинально меняются оптимальные схемы организации трудовых отношений, оттесняются подходы, базирующиеся на фордистской концепции восприятия деятельности и соответствующей культуре управления. А ставка на высокотехнологичные отрасли и высококвалифицированных специалистов ведет, с одной стороны, к повышению роли когнитариата (концентрирующего создающих с помощью знаний) с присущей ему шкалой ценностей и требований, с другой — к необходимости как регулярного обновления знаний, умений и навыков персонала, так и изменения самого воспроизводства, сдвигая ресурсно-методологические конкретики, обеспечивающие близкое к оптимальному поведение. К парадигмальности масштаба и качества начавшихся подвижек надо привыкать и использовать эти процессы. С изменением условий выживает тот, кто готов и сможет использовать новые тенденции в свою пользу.
Реализация исторической субъектности народа при переходе к обществу знания тесно связана с совершенствованием организационно-управленческих (в частности, психологопедагогических) отношений. Органичное управление неразделимо с системой; никакая «бригада менеджеров» не может быть эффективным, изолированным от своего народа блоком управления. Методология стимулирования желательных изменений составляет адекватный условиям регулятивный принцип постсовременности.
Список литературы Общественное развитие как элемент личной безопасности: диалектика социализации и индивидуализации
- Бузгалин А. В., Колганов А. И. Пределы капитала: методология и онтология. М.: Культурная революция, 2009. 680 с.
- Букреев В. И. Расчеловечивание человека в мировой истории: истоки и глобальные последствия: психоантропология. М.: Флинта: Наука, 2011. 405 с.
- Ватин И. В., Тищенко Ю. Р. Исторический процесс как становление человеческой индивидуальности // Проблема человека в «Экономических рукописях 1857–1859 годов» К. Маркса / под ред. Е. Я. Режабека [и др.]. Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1977. С. 84–115.
- Гринспен А. Эпоха потрясений. М.: Юнайтед Пресс, 2010. 550 с.
- Джохадзе И. Д. Демократия после Модерна. М.: Праксис, 2006. 112 с.
- Друкер П. Эпоха разрыва. М.: Вильямс, 2007. 322 с.
- Отчуждение труда: история и современность / Я. И. Кузьминов, Э. С. Набиуллина, В. В. Радаев, Т. П. Субботина. М.: Экономика, 1989. 287 с.
- Параг Ханна. Как управлять миром. Власть в XXI веке. Кому она будет принадлежать? М.: Астрель, 2012. 320 с.
- Сагатовский В. Н. Есть ли выход у человечества? СПб.: Петрополис, 2000. 148 с.
- Фурсов А. И., Правосудов С. А. На пороге глобального хаоса. Битва за будущее. М.: Книжный мир, 2015. 260 с.
- Шедяков В. Е. Гармонизация индивидуального и социального в становлении общества знания // European Vector of Contemporary Psychology, Pedagogy and Social Sciences: the Experience of Ukraine and the Republic of Poland / ed. board: M. Kiedrowska, A. Erechemla, T. Branecki. Sandomierz: Baltija Publishing, 2018. Vol. 3. Р. 446-470.
- Шедяков В. Е. Между умным обществом и диктатурой крупного капитала // Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 2016. С. 71–75.
- Шедяков В. Е. Осуществление парадигмальных трансформаций: сорезонирование стратегии, тактики и оперативного искусства в управленческих композициях // Development and Modernization of Social Sciences: Experience of Poland and Prospects of Ukraine / Maria CurieSklodowska University. Lublin: Baltija Publishing, 2017. Р. 282-307.
- Шедяков В. Е. Создание привлекательных условий жизни и благоприятных для творчества предпосылок — цель и условие долгосрочного эндогенного социально-экономического развития при формировании «умного общества» // The Development of International Competitiveness: State, Region, Enterprise: Proceedings of the Intern. Scient. Conf. Lisbon, 2016. Part II. P. 34-36.