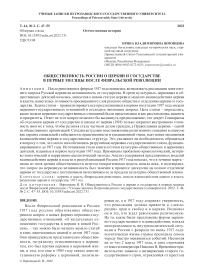Общественность России о церкви и государстве в первые месяцы после Февральской революции
Автор: Воронцова Ирина Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 2 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
После революции в феврале 1917 года появилась возможность реализации многолетнего запроса Русской церкви на независимость от государства. В среде культурных, церковных и общественных деятелей началась дискуссия о новом статусе церкви и моделях взаимодействия церкви и власти, наметилась готовность просвещенного слоя русского общества к отделению церкви от государства. Задача статьи - проанализировать все предлагавшиеся в первом полугодии 1917 года модели церковно-государственных отношений и отследить эволюцию запроса. Цель статьи - определить, какие модели церковно-государственных отношений были представлены и как расставлялись акценты и приоритеты. Ответ на этот вопрос позволил бы выдвинуть предположение, что декрет Совнаркома об отделении церкви от государства и школы от церкви (1918) только закрепил внутреннюю готовность многих к тому, чтобы религия стала частным делом граждан, а Православная церковь - одной из общественных организаций. Сегодня актуально восстановление религиозного сознания в социуме как гаранта социальной стабильности, нравственности и традиционной этики, идет поиск механизмов взаимодействия церкви и государственных структур. Это указывает на необходимость обращаться к вопросу о том, что могло способствовать разрушению церковно-государственного союза, функционировавшего до 1917 года. Источниками стали книги и статьи культурно-общественных и церковных деятелей, изданные в первом полугодии 1917 года. Применены проблемно-хронологический, историко-генетический и нарративно-аналитический методы. Анализ содержания предложенных моделей взаимодействия церкви и власти в республиканской России 1917 года показал, что в течение марта -июня из поля зрения общественности исчезла теократическая модель начала века, и подтвердил, что запрос на церковную независимость был заменен в процессе дискуссии на полное отделение церкви от государства с постепенным вытеснением ее за пределы культурно-общественной жизни.
Церковь и власть, февральская революция, модели взаимодействия церкви и власти, разделение церкви и государства, 1917 год
Короткий адрес: https://sciup.org/147236247
IDR: 147236247 | УДК: 93/94 | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.731
Текст научной статьи Общественность России о церкви и государстве в первые месяцы после Февральской революции
После Февральской революции в России 1917 года русское образованное общество решало вопрос о новых формах церковно-государственных отношений. «О желательных отношениях государства и церкви в новой России», – так можно было назвать немало статей и книг, напечатанных весной и летом 1917 года. Они принадлежали представителям общественности, по-разному относившимся к церкви: тем, кто был против перемен в церковной жизни, и тем, кто еще в 1905 году связал конституционную реформу с церковной, политизи
ровав ее, а в 1917 году сохранял уверенность, что революция должна привести к «декларации» прав и свобод и в церкви. Волновал он и тех, кто ждал революцию религиозную. На то, какие были предложены формы церковно-государственного взаимодействия, влияла неопределенность внутриполитической ситуации в России с февраля по июнь 1917 года: политическая жизнь страны проходила сквозь череду быстро менявшихся событий. Несмотря на то что 2 марта 1917 года, в день отречения от власти императора Николая II, Временное правительство заявило о низвержении старого государственного строя, отрекшийся от престола
3 марта великий князь Михаил Александрович выразил готовность принять управление страной, если народ выберет монархию, проголосовав за большое число монархистов на выборах в Учредительное собрание. Это означало, что судьба власти еще могла измениться. Монархическое управление гарантировало бы христианский статус государства, и вопрос самодержавия как формы «церковно-политической власти» занимал в обсуждении свое место. Вместе с тем монархическое управление не дало Русской церкви ожидавшейся ею независимости. И если церковная интеллигенция до 1917 года была за автономию церкви, а религиозная – за теократическую форму власти, то после февраля и те и другие обсуждали отделение. 4 марта 1917 года к обязанностям обер-прокурора приступил В. Н. Львов, товарищем обер-прокурора стал церковный либерал, примыкавший к кадетам, «неохристианин» А. В. Карташев. Они и глава департамента духовных дел инославных исповеданий С. А. Кот-ляревский стали готовить церковь к отделению. В марте начались аресты близких к Г. Е. Распутину епископов. Заявление В. Н. Львова о предоставлении церкви полной свободы на практике не действовало из-за права светских властей по своему усмотрению останавливать решения Синода. Накануне февраля и в начальный период законодательной деятельности Временного правительства церковь не имела того морально-нравственного авторитета, который позволил бы ей выступить влиятельной силой, а современники епископат такой силой не считали [19: 93]. 10 марта 1917 года журнал «Церковь и жизнь» писал: церковь в опасности, потому что во главе ее – те же чиновники и бюрократы, далекие от религиозной жизни, «что даст эта иерархия церкви в новой России?»1 Журнал выступил за «очистку церкви» и отделение ее от государства.
По инициативе В. Н. Львова 14 апреля состав Синода был заменен, из прежнего в нем остался только архиепископ Сергий (Страгородский). Как пояснял действия В. Н. Львова А. В. Карташев,
«во имя помощи и облегчения самой церкви и в переходе ее от подневольно-государственного положения к свободному выборному строю, Временному правительству нужно было… акушерски помочь рождению соборной реформы Церкви» [9: 376].
Под предлогом создания «демократической церкви» [11: 7], отстраняя епископов, новая власть в максимально короткое время стремилась «покончить» со старым строем [20]. Закон о свободе совести сделал 14 лет возрастом религиозного самоопределения, что создало предпо- сылки для удаления Закона Божия из школьной программы и превращения его в факультативный предмет; постановление «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений» уже 20 марта лишило преемницу Русской церкви – Православную российскую церковь статуса первенствующей. 20 июня церковно-приходские школы были переданы в ведение Министерства народного просвещения. В таких обстоятельствах в русском обществе, при отсутствии оценки Синодом новой политической власти [2: 16], поднялась волна обсуждения положения церкви в государстве. Какие формы церковно-государственного взаимодействия были обсуждены, приняты или отвергнуты с марта по июнь? Стал ли большевистский декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви насилием над общественным мнением? В предложенной парадигме вопрос не ставился и не был предметом научного исследования.
Интерес к установлению форм взаимодействия церкви и власти в государстве характерен для научных работ, анализировавших пребывание у власти Временного правительства и его законодательную деятельность [16], [17], [18], [20]. Ближе всех к нашей теме подошел А. В. Соколов, изучавший модели церковно-государственных отношений, предлагавшихся политическими силами в марте – июле 1917 года [17: 3, 4]. Внимание А. В. Соколова и А. Н. Егорова [6] привлекла деятельность на посту министра исповеданий А. В. Карташева и реализация его программы. Нас же интересует обзор частного мнения представителей русской общественности, не занимавших посты в правительстве. С. П. Синельников рассмотрел формирование модели церковно-государственных отношений церкви и Советского государства и пришел к выводу, что в феврале 1917 года складывалась система отделения церкви от государства в варианте «правомерного отношения государства и церкви» [16: 289]. Общественные силы, приближавшие отделение церкви от государства, исследовались нами в парадигме социально-религиозного поиска в России начала ХХ века [3], вывод об объективной природе этого поиска продиктовал наше обращение к моделям, выдвигавшимся религиозной и церковной общественностью весной – летом 1917 года.
В задачу статьи не входило описание отношений Православной российской церкви и Временного правительства, – эта тема широко представлена в статьях, монографиях и учебниках церковной истории [1], [10], [14], [15], в том числе по правовой проблематике [5], [13]. За рамками данной статьи оставлено обсуждение вопроса на Поместном соборе (1917–1918). Целью был опыт изучения узкого сегмента проблемы, чем обусловлен и короткий список историографии вопроса.
Источниками сведений об отношении к церкви в новой политической реальности высокообразованных общественных и культурных деятелей выбраны статьи и книги, написанные весной – летом 1917 года. При отборе учитывались время выхода книги, знакомство автора с церковной историей, юридическое образование, отношение к революции и обновлению Русской церкви, вероисповедный аспект. Привлечены книги и статьи по проблеме «церковь и власть» профессоров П. Я. Светлова2 и Н. Н. Фиолето-ва3, религиозных реформистов А. В. Карташе-ва4 [4] и А. А. Мейера5, кандидатов богословия Н. М. Малахова6 и В. П. Соколова7, В. В. Зеньков-ского8, доктора права П. В. Верховского9 и редактора журнала «Баптист» В. Г. Павлова10 [15], учтены высказывания доцента кафедры гражданского права Киевского университета В. И. Бошко11, юриста (впоследствии автора декрета Совнаркома об отделении церкви от государства) М. А. Рейс-нера12 [7], статского советника Н. В. Отрокова13. Такой широкий охват должен дать максимально верное представление о мнении общественности России по поднятой нами проблеме.
Применены проблемно-хронологический и историко-генетический методы, позволяющие учесть обстоятельства и динамику появления моделей (от марта к июню 1917 года), а также нарративно-аналитический метод, он призван определить основные дискурсы проблемы и дать описание моделей.
***
До февраля 1917 года вопрос об отделении церкви от государства в России существовал в трех парадигмах: «независимость (автономность) церкви» (сторонники – клир и ортодоксальные миряне), «отказ церкви от союза с самодержавием» (сторонники – религиозная интеллигенция и христианские социалисты), «неизбежность союза церкви и государства» как естественного взаимодействия, продиктованного самой природой человека (церковная интеллигенция). Так, Н. В. Отроков отмечал, что присущее человеку религиозное чувство «является сильным двигателем… и в жизни целого народа, и в жизни… государства», и государство должно заботиться о развитии этого чувства у своих граждан. А поскольку это «развитие принадлежит церкви», стимулировать к тому призвано духовенство14. Н. М. Малахов писал, что церковь не государство в государстве, но особая сила, которая предназначена при содействии благодатных средств проникать и преобразовывать жизнь государства. Церковь может и должна пользоваться политической организацией государства как одним из необходимых внешних и временных орудий для достижения своих целей, государство для нее среда, в которой должна развиваться спасительная деятельность церкви. Признававший «неоднородность» и различие природ и назначения этих двух «институтов», Н. М. Малахов сомневался, можно ли ставить вопрос о том, быть или не быть государству в союзе с церковью:
«Говорить о союзе между Церковью и государством столь же странно, как говорить о союзе между душой и телом. Как между душой и телом существует не союз, а живая, непосредственная, в самой природе их начертанная связь непрестанного взаимодействия, так точно такая же связь и отношение должны существовать между церковью и государством»15.
Эта модель естественного (бездоговорного) взаимодействия, не привязанная к конкретной политической форме правления, оставалась актуальной в марте – апреле 1917 года. Но после действий, предпринятых В. Н. Львовым, в сочинениях видных культурно-общественных деятелей появились и другие модели новых взаимоотношений церкви и государства: свободная теократия, договорной союз, правовая форма с полным отделением церкви от государства. Обсуждение их велось по нескольким направлениям: какие формы сосуществования церкви и государства есть в истории; в чем различие церковной и государственной областей; в чем выражается свобода церкви и ее независимость; может ли Православная церковь сохранить господствующее положение в новой России; есть ли опасность превращения православной России в без-религиозное государство. Выяснялись понятия «церковь» и «государство», специфика областей их деятельности, разница и общие интересы, формы сосуществования церкви и государства, имевшие место в истории западного христианства. При выяснении вопроса о том, в чем выражается свобода церкви и ее независимость, участники обсуждения обращались к религиозной, политически-правовой и внутренней свободе церкви. Оценивались риски отделения церкви – гуманитарные, духовные и практические. Все, кто принял участие в этой неофициальной дискуссии (вне договоренности), придерживались того правила, что проблема должна рассматриваться в параметрах республиканской формы правления и в условиях монокультурного государства.
Помимо этих моделей, с начала ХХ века в среде русской религиозной интеллигенции была распространена идея религиозной теократии. Она родилась как модификация византийской модели в догме «нового религиозного сознания», но с устранением православного самодержавия и предусматривала отказ церкви от связи с ним в той или иной форме (мистической, политической). В. В. Зеньковский считал абсурдом теорию Д. С. Мережковского о «мистической связи». Он опубликовал статью, в которой назвал исторический союз православия и самодержавия «церковно-политической» формой власти в России. «Крушению» этой формы «предшествовало, – как он полагал, – внутреннее падение» самодержавия, и «давно уже оформилась идея необходимости преодоления самодержавия как церковно-политической формы»16. Более того, «самодержавие как исторический факт и самодержавие как церковно-политический идеал не только не совпадают, – написал он в 1917 году, – но… глубоко расходятся»17, самодержавие даже и не знало своего церковного идеала. По Зеньков-скому, задача церкви (Царство Божье на земле) была делегирована ею государству в лице самодержавия. Та церковно-политическая идеология, которая сложилась в России, заключалась в «использовании существующей власти», и в этом ошибка русской теократической идеи18.
«Церковь пыталась оплодотворить идею самодержавия… мечтала влиять на внешний государственный процесс, личность самодержца была проводником и кратчайшим путем к преображению государственности». Но «меньше всего в царизме было стремления к освобождению общества, к единению классов… нелицемерной любви к бедным и обиженным… Сплошное царство официальной лжи и борьба с нараставшим народным самосознанием…»19.
Зеньковский считал, что чем скорее церковное сознание похоронит свой былой идеал, тем ярче проявится в истории правда этого идеала и найдет для себя новую форму взаимодействия с государством. Значительная по объему статья Зеньковского явно была написана им весной 1917 года: несмотря на ее позднюю публикацию, она не вписывается в позднейший дискурс проблемы – полное или неполное отделение церкви.
В основу модели религиозной теократии была положена идея НРС о единстве (при вочеловечении Второй Ипостаси Святой Троицы) «земного» и «небесного», духовного и социального. Отделение церкви от государства интеллигенция НРС считала религиозной необходимостью. По С. Н. Булгакову, выступившему на I Все- российском съезде духовенства и мирян, Февральская революция (будучи для государства политической) для Русской церкви имела «религиозное» значение: она освобождала народ от веры в «религиозное освящение» монар-хии20. С приходом демократии рождался новый церковно-политический союз, и Булгаков считал, что при иерархической структуре церкви он будет таким же «соблазном», что и формула «“православие и самодержавие”, которые рассматривались как нерасторжимое и существенное единство»21. По Булгакову, вместо этой формулы у церкви есть иное, религиозное обоснование, – вочеловечение Христа22, и полное отделение церкви стало бы «религиозным отделением», а этого нельзя допустить. При этом христианский социалист С. Н. Булгаков и «неохристианин» А. В. Карташев уже с 1905 года с политических позиций отстаивали различие природ церкви и государства, отрицая право государства диктовать церкви правила ее жизни, а церкви – применять дисциплинарные санкции к священнослужителям, занявшимся гражданско-правовой и политической деятельностью.
Профессор Высших курсов П. Ф. Лесгафта А. А. Мейер, как «неохристианин», верил в религиозную революцию в церкви и считал, что «государственное вмешательство не помогало бы делу, а только портило бы его», что вера в народе не исчезнет после революции, он сохранит церковь и позаботится о ее существовании без материальной помощи государства. Все, кто за свободу совести, должны быть и за отделение церкви от государства23. Сотрудничавший с «неохристианами» В. П. Соколов, призывая в марте к смене церковных иерархов, писал: «…должно сказать твердо: долгие века путали вы Божье и кесарево. Теперь довольно. Наши дороги разошлись. Для новой России нет “господствующей церкви”»24. Он надеялся, что новый состав Синода проведет революцию в церкви.
Протоиерей П. Я. Светлов систематизировал формы церковно-государственных отношений, обсуждение которых шло с марта по май. Обращая внимание на духовную задачу церкви и ее роль в историко-культурном становлении христианских государств, Светлов подробно описал четыре известных в церковной истории типа отношений с государством: господство, подчинение, взаимодействие, разделение. Они же – латинский, протестантский, византийский, республиканско-правовой. Латинский и протестантский, считал он, отличаются «чрезмерным смешением кесарева с Божиим, т. е. государства и церкви, политики и религии»25, византийский – при- мирением этих крайностей. Предпочитаемый у нас многими, писал Светлов, византийский тип не был осуществлен и остается на положении идеала. А республиканский «создается неправильным разделением кесарева и Божия»26.
Византийский тип, по Светлову, характеризуется признанием равноправия обеих сторон, имеющих свои задачи и пути их решения, а также стремлением к установлению взаимной пользы. Но после февраля 1917 года он уже многим представлялся внешним и поверхностным и не удовлетворял сторонников действительного взаимодействия церкви и государства. «Действительное взаимодействие» заключалось в сотрудничестве церкви и государства по строительству на земле Царства Божьего. (Акцент на Царстве Божием на земле был характерен для богослова, он, а также религиозные реформисты и социальные христиане считали, что это и есть историческая цель государства и христианства.) При сотрудничестве, писал Светлов, церковь и государство «внутренним образом и свободно, объединяются (как душа и тело в человеке) в одно целое, именуемое “ свободной теократией или христианским государством ”»27, объединение устанавливается не принуждением и действием внешних мер, а естественным путем органического соединения власти с верующим народом.
Республиканско-правовой тип – это сосуществование свободной церкви и безрелигиозно-го государства. Этот тип, согласно Светлову, судившему по печати, собраниям духовенства и мирян и чрезвычайным епархиальным съездам, стал популярен весной 1917 года. Для модели этого типа характерно не отделение, а разделение церкви с государством. Полное разделение он противопоставил ранее искомой «автономии» и (в 1917 году) «отделению» церкви. Свобода церкви и отделение ее от государства, считал он, – вещи разные, и
«русская Церковь… была наиболее свободною в период самой тесной связи с государством в начале своей истории. …Не всяким отделением достигается свобода Церкви, менее же всего полным отделением»28, не всяким союзом или связью церкви с государством отрицается свобода церкви. Автономия церкви достигается в неполном отделении, а проведение принципа «разделения» ведет к обратному – к самой тяжелой форме церковной зависимости, «похожей на гонение церкви»29.
Разделение «ведет к безрелигиозному государству с безразличным отношением к религии как объекту частного права, даже к гонениям на религию... В своем чистом виде безрелигиозный тип полного разделе- ния церкви и государства не наблюдается в истории, и представляется возможным разве только в теории»30. «Полный разрыв государства с церковью есть решительная невозможность, отрицаемая понятиями о суверенитете государства и церкви, которая по своей видимой человеческой стороне – есть внешнее учреждение или общество, состоящее из… граждан того же государства; поэтому государство вынуждено всегда регулировать правовое положение религиозных обществ и причислять их к объектам публичного права, подвергая оценке их вероучения и правила жизни с точки зрения своих государственных интересов»31.
В ситуации надежды общественности на созыв осенью Учредительного собрания Светлов предлагал гражданам хорошенько подумать перед голосованием в Учредительное собрание: нужно ли российскому государству отделение церкви, равносильное ее упразднению?
Правовую форму предложили церковные интеллигенты П. В. Верховской, В. Г. Павлов, Н. Н. Фиолетов, юристы В. И. Бошко и М. А. Рейснер. В свете смены политических режимов в стране она представлялась наиболее приемлемой формой взаимодействия, к тому же опробованной в Европе.
П. В. Верховской писал свою книгу в атмосфере надежды на созыв Учредительного собрания весной 1917 года (созыв был перенесен на осень) и считал, что нужно к этому времени сформулировать все необходимые требования. Они должны быть направлены на решение того, «как сохранить исключительную историческую ценность» Православной церкви, за тысячу лет христианства ставшей в России «величайшей народной святыней»32. Он выдвинул договорной союз, который исключал разделение: церковь становилась независимой в ее внутренней жизни общественной организацией с рядом привилегий (например, священники и псаломщики признавались невоеннообязанными, церковь имела право учреждать высшие и средние учебные заведения и содержать их за государственный счет, преподавать Закон Божий детям православных родителей в светских и частных школах). Неприкосновенными оставались церковные землевладения и имущество, последнее освобождалось от налогов в случае отсутствия дохода; признавались судебные действия церковных учреждений, постановлений и должностных лиц. «Надзор» за церковью осуществлялся в общем судебно-административном порядке, государство по-прежнему выделяло денежные средства на церковные нужды33. Это был вариант западно-христианского конкордата между светской и духовной властью.
За правовую форму с полным отделением церкви от государства от лица всех баптистов России высказался В. Г. Павлов.
«Мы, баптисты, – сказал он 3 апреля 1917 года, – считаем союз церкви с государством ненормальным, вредным для обеих сторон и решительно требуем отделения церкви от государства»34.
Глава церкви – Христос, писал он, поэтому церковь не может сама от себя издавать законы; ни соборы, ни синоды, ни папы и собрания – ничто не может господствовать над нею35. Такая постановка лишала церковь внутреннего самоуправления. В соответствии с законом о свободе совести, считал Павлов, Православная церковь не может быть господствующей, духовенство не имеет права на казенное содержание; права юридических лиц должны принадлежать всем религиозным общинам и союзам общин; курс православия может читаться в духовных учебных заведениях только в последний год обучения; преподавание Закона Божьего нужно сделать необязательным. Павлов предлагал считать религию частным делом; объявить все церковное имущество национальной собственностью, в том числе храмы, которые дóлжно сдавать в аренду; духовные учебные заведения передать в ведение Министерства внутренних дел, церковноприходские школы закрыть; ввести государственную регистрацию гражданских браков36.
Н. Н. Фиолетов опубликовал статью весной 1917 года и считал, что правовые отношения церкви с государством вынудят республиканскую власть положительно относиться к религии, к ее значению для общественной и государственной жизни; создавать условия, при которых могла бы свободно проявляться и развиваться религиозная жизнь: предоставлять каждой церкви право самоуправления, признавать публичными религиозные учреждения, предоставить духовенству особые права и особое положение, выделять ему материальную помощь37. Очевидно, что модель правовых отношений Фиолетова предполагала признание обеими сторонами того, что государство и церковь «соприкасаются в живой и нераздельной человеческой личности». Церковь нуждается в организации, имущественных средствах для отправления богослужений и не может относиться равнодушно к общественной жизни, писал Фиолетов. При этом он был согласен с позицией тех, кто считал, что государство и церковь – «общества» различные (задача церкви – приготовление к Царству Божию, которое не от мира сего, а государство имеет целью установление внешнего порядка и содействие земному благополучию его членов). Фио-летов брал в качестве примера эволюцию госу- дарств Европы (от «полицейского» – в правовое, обеспечивающее свободу совести и религиозных обществ и союзов). Церковный интеллигент Фиолетов учитывал, что правовая модель даст статус господствующей церкви той конфессии, к которой будет принадлежать большинство населения страны, что скажется и на церковных праздниках, и на обязательном преподавании Закона Божьего, и на положении духовенства и его имущественной поддержке.
Модель полного отделения поддержал В. И. Бошко, считавший, что в России слишком сильно «спаяны были… нити политики и религии». Как и А. В. Карташев, изменивший свое мнение на посту обер-прокурора в пользу отделения церкви, Бошко был за принцип постепенного отделения церкви от государства и считал, что оно обязано «обеспечить церкви безболезненный переход… в… положение свободной церкви в свободном государстве», что в дальнейшем приведет к полному отделению ее от государства38.
М. А. Рейснер был известным специалистом в области государственно-конфессиональных отношений. Как либерал, он с начала века считал, что любые провозглашаемые в самодержавной России принципы в области «церковного» права выгодны лишь для господствующего строя, но при этом выступал за запрет публичной проповеди атеизма [7: 107]. Поддерживая свободу совести как естественное право человека, он смотрел на церковно-государственные отношения с позиции марксистов. Рейснер был убежден, что лишь не причастная ни к какой религиозной конфессии «общественная власть» может гарантировать свободу вероисповедания [7: 107, 108].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Большинство моделей, предложенных в 1917 году, переводили историческую Русскую церковь в статус общественной организации; независимо от вероисповедной принадлежности их авторов в приоритете были узко правовые отношения церкви и государства (несущие риск полного разделения). Принятие новым советским правительством, несмотря на протест духовенства, декрета 1918 года де факто закрепило готовность общества к полному отделению церкви. Мы получили одну из худших, но ожидавшихся общественностью форм сосуществования церкви и государства; началось преследование духовенства и мирян. Формировавшая культуру и менталитет России, церковь на долгие годы оказалась в бесправных условиях в атеистическом государстве с богоборческой властью и сегодня остается одной из общественных организаций, тогда как она – духовный институт с определенным и неменяющимся содержанием. Как показал итог обсуждения 1917 года, моделируя церковно-государственное взаимодействие, следует учитывать принципы внутренней жизни церкви и охра- нять ее традиции. Помещая церковь в чуждые ее природе условия социально-политической перестройки в государстве, мы подвергаем рискам устои и гражданского общества.
Список литературы Общественность России о церкви и государстве в первые месяцы после Февральской революции
- Беляева А.В. Церковь и государство в России в начале XX века: Учеб. пособие по спецкурсу «Государство. Общество. Церковь. XX век». Ярославль, 1999. 44 с.
- Васильева О. Ю. Российская православная церковь и Октябрьская революция 1917 г. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. Т. 37, № 1-2. С. 12-29.
- Воронцова И. В. «Заколдованный круг русского сознания»: проблемы социально-религиозного поиска в православной России второй половины XIX - начала XX века. М.; СПб., 2020. 933 с.
- Воронцова И. В. Трактат А. В. Карташева «Реформа, реформация и исполнения Церкви» // Диалог со временем. 2021. Вып. 76. С. 70-84.
- Государство, церковь и право. Конституционно-богословские и правовые проблемы: Материалы IX между-нар. науч. конф., посвящ. 100-летию восстановления патриаршества и избрания святителя Тихона (Бела-вина) на Всероссийский Патриарший престол. М., 2017. 502 с.
- Егоров А. Н. Министр исповеданий А. В. Карташев и конфессиональная политика Временного Правительства // Historia provinciae - журнал региональной истории. 2021. Т. 5, № 3. С. 843-885.
- Исаков П. И. Роль М. А. Рейснера в подготовке Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви // Вестник ПСТГУ. Сер. II. 2021. Вып. 98. С. 106-117.
- Исповедь в застенках ВЧК. К биографии историка и общественного деятеля профессора и протоиерея П. В. Верховского // Вестник ПСТГУ. Сер. II. 2012. Вып. 5. С. 87-104.
- Карташев А. Временное правительство и Русская Церковь // Современные записки. Париж, 1933. Вып. LII. C. 368-388.
- Конфессиональная политика Временного правительства России: Сб. док. / Сост., пред. и комм. М. А. Бабкин. М., 2018. 558 с.
- Лескин Д. Церковно-государственные отношения в преддверии Поместного собора 1917 года // Поволжский вестник науки. 2020. № 1. С. 7-12.
- Николин А., свящ. Церковь и государство: История правовых отношений. М., 1997. 429 с.
- Кашеваров А. Н. Русская Православная Церковь между Февралем и Октябрем 1917 г. // Петербургская историческая школа. СПб., 2001. С. 153-169.
- Печорин А. В., Сухарев Ю. М. Поместный собор Российской православной церкви и первый чрезвычайный Всероссийский съезд духовенства и мирян в воспоминаниях екатеринбургского протоиерея Алексия Игнатьева // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2018. № 2. С. 148-180.
- Потапова Н. Евангельские христиане и баптисты России в революционном процессе 1917-1922 гг.: трансформация идентичности (по материалам конфессиональной прессы) // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2019. Т. 37, № 1-2. С. 396-416.
- Синельников С. П. К характеристике государственно-церковных отношений в России в 19171918 гг. // Русская словесность как основа Русского мира: Материалы XV Междунар. форума. Липецк, 2020. С. 288-291.
- Соколов А. В. Временное правительство и Русская православная церковь: 1917 год: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2002. 26 c.
- Смолин М. Б. Церковь, государство и революция. М., 2013. 93 с.
- Фирсов С. Л. Святейший Правительствующий Синод накануне и во время революции. Историко-со-циологический очерк // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2019. Т. 37, № 1-2. С. 90-103.
- Фирсов С. Л. Православная церковь и государство в последнее десятилетие существования самодержавия в России. СПб., 1996. 660 с.