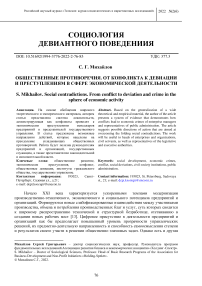Общественные противоречия. От конфликта к девиации и преступлениям в сфере экономической деятельности
Автор: Михайлов Сергей Григорьевич
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Социология девиантного поведениия
Статья в выпуске: 2, 2022 года.
Бесплатный доступ
На основе обобщения широкого теоретического и эмпирического материала, автором статьи представлена система доказательств, демонстрирующая как конфликты приводят к экономическим преступлениям менеджеров предприятий и представителей государственного управления. В статье предложены возможные направления действий, которые нацелены на преодоление складывающих общественных противоречий. Работа будет полезна руководителям предприятий и организаций, государственным служащим, а также представителям законодательной и исполнительной власти.
Общественное развитие, экономические преступления, конфликт, общественные девиации, институты гражданского общества, государственное управление
Короткий адрес: https://sciup.org/142234442
IDR: 142234442 | УДК: 377.3
Текст научной статьи Общественные противоречия. От конфликта к девиации и преступлениям в сфере экономической деятельности
Начало XXI века характеризуется ускоренными темпами модернизации производственно-технического, экономического и социального потенциала предприятий и организаций. Формируются новые слабофиксированные взаимодействия между участниками производства, обмена и потребления производственных благ и услуг, суть которых сводится к широкому распространению технической и структурной безработице, отстаиванию в создании новых рабочих мест [13]. Цифровое присутствие в деятельности предприятий и организаций как бы предполагает повышенный уровень прозрачности управленческих решений, их предметно-деятельную направленность и способность самоосмысления степени и результатов своего участи в решении общественно значимых задач. Однако есть и другая
Михайлов Сергей Григорьевич – доктор социологических наук, профессор. Руководитель программ фундаментальных исследований Ассоциации развития бизнеса и некоммерческих инициатив «Холдинг-Спектр». S. Mikhailov – Doctor of Sociological Sciences, Professor. Head of Basic Research Programs of the Association for Business Development and Non-Profit Initiatives «Holding-Spektr».
ниша, связываемая с процессом ускорения темпов модернизации – это ниша запаздывания в законодательном и нормативном сопровождении большинства видов деятельности и, в первую очередь, деятельности экономической. Как следствие только в последние десятилетие резко выросло число преступлений в сфере экономики.
Об актуальности темы в России говорят следующие цифры: в январе сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3,5% увеличилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 93,0 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 6,2%. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 317,6 млрд. руб. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 60.3% [7].
Проблема преступности в экономике общемировая. Экономическая преступность в последние десятилетия XX века стала массовым и масштабным явлением во многих государствах мира. Криминальное поведение в сфере хозяйствования стало распространенным явлением практически для всех моделей либеральной рыночной экономики.
Заметим, что в основании приступной деятельности всегда присутствует конфликт. Так, например, внутриличностные конфликты, связанные с работой в организации, могут принимать различные формы. Наиболее распространенный – это ролевой конфликт.
Причиной такого конфликта является рассогласование личных потребностей и требований производства. Внутренние конфликты могут возникать на производстве вследствие перегруженности работой или отсутствие работы при необходимости находиться на рабочем месте. Если сотрудник не видит перспектив профессионального развития или служебного роста, это может стать причиной его внутриличностного конфликта, поскольку не удовлетворена одна из важнейших личностных потребностей – в самореализации.
Внутриличностные конфликты сотрудников отражаются на их работе:
-
— снижается заинтересованность всегда трудолюбивого и активного сотрудника;
-
— возникает критическая настроенность по отношению ко всему и всем, включая себя;
-
— плохое настроение, отказ от общения, поведение становится неколлегиальным;
-
— появляется гораздо больше мелких ошибок, чем обычно, невнимательность, способность сосредоточится;
-
— затрудняется поиск формулировок, не стремится к публичным высказываниям;
-
— по сравнению с недавним прошлым становится тихим, погруженным в себя, иногда в процессе разговора кажется, будто он где-то далеко;
-
— учащаются случаи отсутствия на работе, в том числе и по болезни (уход в болезнь);
-
— происходят различные «несчастные случаи».
Межличностный конфликт в организациях проявляется по-разному. Многие руководители считают, что единственной его причиной является несходство характеров. Однако, более глубокий анализ показывает, что в основе таких конфликтов, лежат объективные причины. Чаще всего — это борьба за ограниченные ресурсы: материальные средства, производственные площади, рабочую силу и т. д. Конфликты возникают между руководителем и подчиненным, например, когда подчиненный убежден, что руководитель предъявляет к нему непомерные требования, а руководитель считает, что подчиненный не желает работать в полную силу.
По субъектному признаку во внутренней жизни каждой организации можно выделить следующие типы межличностных конфликтов:
-
а) конфликт между управляющими и управляемыми в рамках организации;
-
б) конфликты между рядовыми сотрудниками;
-
в) конфликты на управленческом уровне, т.е. конфликты между руководителями одного ранга.
Проведенные в 2018–2019 гг. исследования конфликтов в организациях среди менеджеров среднею звена в количестве 180 человек в возрасте от 23 до 30 лет, позволяют сделать вывод, что внутриличностные конфликты присущи 86% респондентов, а межличностные конфликты — 14%, что свидетельствует о том, что наличие напряжения играет весьма важную роль в деятельности менеджеров. Среди внутриличностных конфликтов менеджеры отмечают — конфликт между уровнем притязаний и уровнем достижений — 38%, конфликт между потребностью достижений во всех сферах жизни и невозможностью совместить требования различных ролей — 24%, конфликт между нормами и агрессивными тенденциями — 15%. В качестве одной из основных причин провалов управленцев, имевших хорошую репутацию, обычно называется «напряженность в отношении с другими людьми».
Выделяют несколько основных причин конфликтов в организациях: распределение ресурсов; взаимозависимость задач; различия в целях; различия способов достижения цели; неудовлетворительная коммуникация; различия в психологических особенностях.
Конфликтные взаимоотношения существенно обременяют жизнь организации. Многие исследователи делают акцент на организационные и психологические последствия конструктивного или деструктивного варианта течения конфликта. При конструктивном его разрешении создаются предпосылки для нормализации эмоционального фона взаимодействия сотрудников: смягчается враждебность, настороженность, уменьшается чувство несправедливости, формируются установки на сотрудничество, социальную активность. При деструктивном развитии конфликта возникает отрицательный эмоциональный фон, нарушаются эмоциональные связи, усиливается негрупповой фаворитизм, возникают установки конфликтного взаимодействия, препятствующее и в дальнейшем рациональному поведению в конфликтах, в частности, установка на победу любой ценой, а не на разрешение имеющихся противоречий. Именно конфликт позволяет членам организации ощутить, что «не все в порядке», а это в свою очередь является предпосылкой для развития организации. Однако организация, будучи открытой системой, реализует свои цели в вероятностно организованной среде, а это предполагает определенную вероятность возникновения негармоничных отношений различных организационных факторов, противоречивых тенденций в их развитии. За счет снятия противоречий и осуществляется гармонизация функционирования системы в целом.
Неразрешенность возникающих противоречий на предприятиях и в организациях приводит к утрате практически у 40% работников чувства лояльности, 35% - доверия. Более 40% выражали скрытую готовность к какой-либо преступной деятельности. Ханс Питер Бенедикт на Открытой лекции в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете подчеркивал, что около 29 % менеджеров немецких корпораций используют незаконные действия по личному обогащению. К.А. Прозоровская определила, что в России исторически сложилась ситуация, когда применение уголовного и административного законодательства к лицам, совершившим должностные преступления, оказалось ограничено до минимума. За долгие годы своей почти бесконтрольной деятельности чиновники выработали такой механизм совершения должностных правонарушений, который позволил им не попасть на скамью подсудимых. Особенно это проявилось в 90-е годы, когда сокращение реальных денежных доходов населения в сочетании с задолженностями по заработной плате, снижение уровня потребления жизненно важных продуктов привели к активизации коррупции. В те годы организованная преступность препятствовала принятию законов, необходимых для продвижения к более цивилизованной рыночной экономике. Коррумпированные чиновники и законодатели, связанные с организованной преступностью, создали барьер для любых законодательных изменений, которые ей (оргпреступности) невыгодны [9].
Нельзя исключать в причинном комплексе коррупции и внешний фактор. А.Н. Асадов отмечает, что в анализе транснациональных детерминант коррупции главным объектом является экстернальное закоррумпирование — целенаправленное системное закоррумпирование извне. Это интервенция мировых ведущих стран, их олигархических кланов во внутренние политические процессы, экономические и финансовые ресурсы, правовую систему стран-«жертв» посредством использования технологии принуждения к коррупции. На реализацию своих намерений они направляют колоссальные средства, поскольку ставка делается на высокий экономический, геополитический, психологический ожидаемый эффект. При этом используются все доступные средства — подкуп чиновников, вербовка лидеров бизнес-сообщества и использование современных технологий манипуляции мнением населения, прежде всего через средства массовой информации. [2]
Во многих обществах коррупционные действия нередко обычное явление и считаются нормальным поведением. Данное явление наблюдается в странах «третьего мира» и бывает неотъемлемой частью достижения необходимых результатов. Но коррупция не ограничивается менее развитыми странами, что подтверждают такие скандалы, Уотергейтское дело (США) и дело Поулсона (Великобритания) [11].
Маскируясь под «комиссионные», «консультирование», плату за посреднические или юридические услуги, взятки во всем мире стали неизбежной платой за деловую активность. В 1997 г. в США было истрачено 660 млн долл, на получение мандатов в Палате представителей и Сенате. На разные избирательные кампании было истрачено более 3 млрд долл.
В Японии 9 из 15 премьер-министров периода 1955—1993 гг. были вовлечены в коррупционные связи. Не менее половины депутатов японского парламента смогли добиться своих кресел лишь при опоре на незаконное финансирование. Треть итальянских депутатов приглашалась на допросы в связи с различными нарушениями [5].
Но если приведенные данные подчеркивают общественную ситуацию с преступностью в экономической сфере, то возникает очевидный вопрос, а что же делать?
В России проводится целенаправленная работа по развитию институтов гражданского общества, более 10 лет назад принят закон, расширяющий полномочия правоохранительных органов [12]. И, видимо, при согласованных действиях этих общественных и государственных структур можно найти столь важное решение по противодействию преступлениям в экономичной деятельности.
При этом возникает вполне очевидный вопрос о степени готовности взаимодействия полиции и институтов гражданского общества. Что касается полиции, то ее назначение состоит в защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации; в противодействии преступности; охране общественного порядка, собственности; обеспечении общественной безопасности.
Намечаемое взаимодействие полиции с институтами гражданского общества приобретает многокритериальный характер, обусловленный социальным неравенством россиян. Проявлением социального неравенства в обществе является социальное недовольство граждан, которое основывается на базовых для конкретных страт ценностномировоззренческих позициях в отношении распределения собственности, распределения доходов, участия в управлении и т.д., то есть на неудовлетворении своих социальных ожиданий. Заметим, что только 18% граждан полагают, что их труд оценивается по достоинству [3].
Многокритериальность намечаемого взаимодействия полиции и институтов гражданского общества также обусловлена и тем, что процесс модернизации общественных отношений может осуществляться на основе достаточности экономических и человеческих ресурсов, на гражданском согласии среди элит общества, на социальном контроле и упреждении государством острых социальных конфликтов, на быстром росте численности среднего класса, на наличии признанной в обществе национальной идеи [8].
В.А. Ядов определил модернизацию «как процесс создания современных институтов и отношений, ценностей и норм», необходимых для изменения социального типа «базисной личности» [14]. и одновременно он отмечает, что ни у одного из переживших успешную модернизацию народов не произошла полная смена их национальной идентичности.
По всей вероятности, подобное является одной из причин неразвитости институтов гражданского общества, под которыми, видимо, будет целесообразно понимать организованные объединения граждан, действия которых направлены на достижение целей и задач, стоящих как перед самыми объединениями, так и отдельными гражданами.
Процесс взаимодействия полиции и институтов гражданского общества достаточно противоречив и сложен в силу обстоятельств, которые фиксировались скорее, как противодействие, чем попытки соприкоснуться с реалиями новых общественных отношений в стране. Правоохранительные органы в последние годы акцентировали свою деятельность на борьбе с организованной преступностью, на фактах коррупции и мошенничества, торговле оружием, наркоторговле, проституции и незаконном предпринимательстве.
Опрос экспертов (n=21), представителей общественных движений Санкт-Петербурга показал, что, по их мнению, ослаблен социальный контроль за характером, содержанием и результатами политических и экономических преобразований в стране. Пожалуй, впервые практически каждый человек перестал ощущать себя хозяином не только на производстве, но и в своем доме, свою причастность к делам государства и стал предоставлен самому себе в жизнеобеспечении своей семьи, престарелых родителей, а также в обеспечении собственной безопасности. Так, в триумвирате человек - государство - правоохранительные органы произошел системный разрыв, исключающий различные, даже самые примитивные, формы сотрудничества в решении вопросов жизнеобеспечения и гражданственности.
Гражданские права – права по закону, даны всем гражданам и предусматривают правовое взаимодействие человека, как физического, а в некоторых случаях и юридического лица, с конкретными органами государственного управления, включая те, которые призваны обеспечивать правовое поле его жизнедеятельности и жизнеобеспечения.
Взаимодействие как социальный феномен способствует интеграции граждан, государства и его органов управления, институтов гражданского общества в формировании конструкта общественного развития с определением роли каждого в этом процессе.
Отмечая, что сотрудник полиции, прежде всего гражданин, необходимо одновременно обратить внимание и на то, что его возможности взаимодействия с другими гражданами общества зависят от семейного положения, воспитания, уровня общего и профессионального образования, опыта работы, стиля жизни, социальных связей, культуры поведения, интересов, уровня доходов и, пожалуй, патриотизма.
В благополучных семьях, как правило, формируется гражданское самосознание человека, его целевые установки и социальные притязания, а, в конечном счете, и гражданская позиция в отношении общественных реалий.
Образование, как нам представляемся, является непосредственным атрибутом формирования гражданской позиции человека. Система образования призвана интегрировать социокультурное пространство, гражданственность в общественном развитии.
На гражданственность, на гражданскую позицию индивида оказывают влияние и индивидуальные интересы, что, в конечном счете, является признаком социальной поляризации. Так, у сотрудников полиции можно отметить три группы социальных ориентиров в общественном развитии: утверждение приоритета государственных интересов над индивидуальными интересами и свободами личности (72,0%); утверждение приоритета индивидуальных интересов и свобод над государственными интересами (26,0%); сочетание государственных интересов и индивидуальной свободы личности (2,0%). Подобная градация интересов сотрудников полиции не может не отразиться на направленности и содержании профессиональной деятельности.
В. Радаев, рассматривая вопросы социальной стратификации в общественном развитии, обратил внимание на роль воспитания человека. [10] Воспитание человека решает проблему взаимодействия его с социальной средой, социальной среды с системой воспитания в стране, а задачам воспитания принадлежит участие человека в социальных процессах, процессах социализации, социальной мобильности личности. Следовательно, среди задач, решаемых посредством воспитания человека: прогностическая, способствующая формированию конструкта личности под воздействием различных факторов общественного развития; детерминации, влияния общественной среды на личность; предметно-деятельная, фокусирующая реальный общественный процесс развития профессиональных качеств личности.
Дальнейшее общественное развитее, связанной по определению Л.И. Абалкина с самопознанием России [1], в частности, в связи с глобальными мировыми тенденциями, ростом коррупции и асоциальных проявлений в поведении людей, человеческих сообществ и организаций предполагает социальный заказ на взаимодействие полиции с гражданами и институтами гражданского общества. Социальный заказ представляет собой выражение существующей в обществе потребности в мониторинге, фиксации и широком привлечении граждан к решению возникающих проблем.
Социальный заказ касается вопросов достижения общенационального согласия в борьбе с проявлениями коррупции, мошенничества, воровства, угрозы жизни и здоровью граждан, различных форм девиантного поведения и т. д.
Современные вызовы общественного развития обусловливают значение социального заказа в усилении взаимодействия полиции, граждан и институтов гражданского общества.
Одним из таких вызовов является увеличивающиеся масштабы потребления алкоголя. Алкоголизация населения стала массовым явлением и приобрела форму социальной девиации, отчуждения личности от норм общественных отношений. Следующая проблема, которая не решается без участия в ее разрешении граждан и институтов гражданского общества -проблема проституции. Проституция является одной из причин социальной деградации личности, неспособности человека интегрироваться в общественные отношения. То же касается и проблемы наркотизации населения.
К настоящему времени до 2,5 млн человек в России пробовали наркотики, однако, не входят в группу, требующую внимания общественности и правоохранительных органов; до 1,5 млн. человек - потребителей наркотиков входят в группу риска, но еще не являются устойчивыми наркоманами; около 850 тыс. человек - наркоманов требуют лечения. Большинство этих людей выключены из процесса развития общественных отношений, в частности, из сферы труда и склонны к проявлению девиантного поведения, например, воровству.
Можно в этой связи задаться вопросом о месте полиции в преодолении противоречий в общественном развитии. Свой теоретический и эмпирический анализ данного вопроса начнем с так называемого «начала» - милиции, правопреемником, которой является полиция. Так, контент анализ, проведенный нами, позволил установить, что в социологической литературе отмечен очень низкий уровень рефлективности, коммуникативный разрыв, а также характерную дискретность современной социологии милиции.
Социология милиции [4] представляет собой неоднородное, тематически фрагментированное пространство, отличающиеся разным уровнем методической, теоретической и эмпирической проработки.
Заслуживает внимания и достаточно специфический вопрос, в частности, о развитии органов охраны правопорядка в ретроспективе. Так, ряд исследователей рассматривают последовательность государственных инициатив по реформированию и преобразованию МВД, анализируют социальные, политические и правовые последствия осуществленных реформ, описывают исторические изменения принципов функционирования правоохранительной системы. Л. Косалс обратил внимание на вопросы неформальной экономической деятельности сотрудников милиции, которые остаются актуальными и на современном этапе модернизации правоохранительной системы [6].
Большинство исследователей подчеркивают, что скрытая, но повсеместная коммерциализация работы правоохранительных органов привела к острейшим дефектам в деятельности первичных (низовых) организаций МВД, перерождению их из органов защиты населения и обеспечения правопорядка в органы, занимающиеся собственной коммерческой деятельностью и зарабатывающие на населении.
Некоторые попытки в рамках исследовательских проектов сфокусировать внимание на процессе взаимодействия милиции-полиции с населением, с институтами гражданского общества, по нашему мнению, не увенчались успехом из-за того, что акцент был смещен в сторону противоправных действий сотрудников правопорядка. Одной из причин этого является то, что до настоящего времени полиция не рассматривается, как специфический социальный институт. А это приводит к тому, что ситуации взаимодействия полиции осуществляются в основном, с недифференцированной группой населения или граждан, а не с институтами гражданского общества. Отсутствие системного и целенаправленного взаимодействия полиции и институтов гражданского общества приводит к их разобщенности, восприятию отдельных негативных фактов в деятельности, как граждан, так и сотрудников полиции как сложившийся стереотип девиантного поведения. Стереотип девиантности поведения является не только разобщающим, разделяющим общество и его гражданские институты, но и основанием для формирования взаимного недоверия.
Гораздо сложнее взаимодействие института полиции с институтами гражданского общества, которое, по нашему мнению, должно учитывать особый тип предметной реальности – разнообразие объединения, союзы, организации – от родовых, религиозных до современных экономических, политических, правовых, научных, просветительских, художественных, правозащитных, деятельность которых обеспечивается приобретенными в пространственновременном интервале представлениями, убеждениями, знаниями и умениями. Ведь, институты гражданского общества, институт полиции, порождаются конкретными условиями существования социума в определенных исторических и природно-географических условиях; они имеют тенденцию к накоплению и трансформации; формировались в развернутом спектре жизнедеятельности и жизнеобеспечения человека, общества в целом; сталкивались друг с другом, конкурировали, боролись, поскольку обеспечивали и осуществляли не только равно приемлемые различные, но и противоположные, альтернативные действия в отношении друг друга. Эти действия скорее являются сознательными, чем бессознательными, так как основываются не только на индивидуальном поведении граждан, решающим задачи личностного характера, но действиях органов государственного управления, политических партий, этнических и поселенческих общностей.
Таким образом, взаимодействие института полиции с институтами гражданского общества определяется составом действий: познавательно-информационных и предметнодеятельных, то есть организационно-институциональной формой их бытия – определенной формой человеческих отношений – это не столько продукт деятельности людей, сколько форма объективизации самой этой деятельности. Подводя итоги проблемной ситуации взаимодействия института полиции с институтами гражданского общества, можно предположить, что суть состоит в преодолении разногласия интересов, которые могут стать разными сторонами единого, целостного и гармоничного развития общественных отношений.
Список литературы Общественные противоречия. От конфликта к девиации и преступлениям в сфере экономической деятельности
- Абалкин Л.И. К самопознанию России. - М.: Институт экономики РАН, 1995. С.
- Асадов А. Н. Транснациональные детерминанты коррупции в России// Противодействие коррупции в Росси: проблемы и перспективы. Сборник научных работ / под общ. Ред С.Б. Мурашева. - СПб.: Центр подготовки персонала ФНС России, г. Санкт-Петербург, 2012. С.40
- Горшков М.К Российское общество как новая социальная реальность. Вместо предисловия, в кн.: Россия, реформирующаяся Ежегодник / Отв. ред. М.К. Горшков. - Вып.6. - М.: ИС РАН, 2007, с.5.
- Грошев И (2008) Истоки и причины коррупции в правоохранительных органах России / Следователь №1. С.41-53
- Коррупция и бюрократизм: истоки и пути преодоления. - М., 1998. - С. 45.
- Косалс Л. Неформальная экономическая деятельность правоохранительных органов в России: социологический анализ. - М.: ИС РАН, 2002.
- Краткая характеристика состояния преступности в России за 2018 г. Электронный ресурс. Режим доступа http://crimestat.ru/analytics . Дата обращения 04.05.2022
- Наумова Н Ф. Рецидивирующая модернизация в России, беда, вина или ресурс человечества. - М. Эдиториал, 1999.
- Прозоровская К.А. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. - Спб.: Изд-во СПбГЭУ, 2018, с. 34
- Радаев В. Социальная стратификация, или как подходить к проблемам социального расслоения // Российский экономический журнал. 1994. №11, с.87.
- Спивак В.А. Коррупция: девиация или норма? Системный подход к проблеме// Противодействие коррупции в Росси: проблемы и перспективы. Сборник научных работ / под общ. Ред С.Б. Мурашева. - СПб.: Центр подготовки персонала ФНС России, г. Санкт-Петербург, 2012. С.40
- Федеральный закон «О полиции». - М.: Изд-во «Омета-Л», 2011.- 80 с.
- Шваб К. Четвертая промышленная революция: перевод с англ./ Клаус Шваб. - Москва: Эксмо, 2019. - 209 с.
- Ядов. В.А. Теоретико-концептуальные объяснения «посткоммунистических» трансформаций. В кн.: Россия реформирующаяся. Вместо предисловия, с. 14.